|
Эра Борисовна Коробова |
|
|
Мой сосед Довлатов |
|
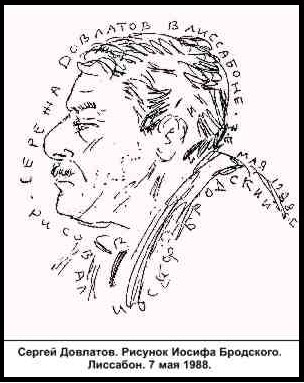 Я
знала Сергея Довлатова по
Ленинграду. В первый раз увидела его в доме поэта
Евгения Рейна.
Они жили на улице Рубинштейна (теперь снова Троицкой). А в последний — на
аэродроме "Пулково-2". Ворота в другую жизнь. Таможенные стойки служили
Хароновым пределом: отлучение, навсегда. Я
знала Сергея Довлатова по
Ленинграду. В первый раз увидела его в доме поэта
Евгения Рейна.
Они жили на улице Рубинштейна (теперь снова Троицкой). А в последний — на
аэродроме "Пулково-2". Ворота в другую жизнь. Таможенные стойки служили
Хароновым пределом: отлучение, навсегда.Я запомнила его во всех подробностях. Может быть, потому что отлетающих отлучили от нас задолго до вылета, запустив в прозрачный аквариум зала ожидания. Сквозь его стекла мы получили несчастную возможность еще долго видеть тяжело мающегося ожиданием Сережу, отрешенную и растерянную Нору Сергеевну, его маму, и понурую Глашу, маленького фокстерьера, которую я знала "со времен ее ранней юности" (по определению ее хозяина) и вплоть до того момента, когда за ними задраили дверь самолета. Именно за Сережей, потому как в недлинной очереди покидающих он был последним. Хотела написать "замыкающим", но замыкающим был не он, а следовавший за ним с автоматом наперевес и казавшийся малюсеньким пограничник. Все, кто был впереди, по трапу поднимались оборачиваясь, но уже торопливо. Их быстро втянуло внутрь, и на середине трапа остались только двое. Сергей поднимался к самолету спиной, с руками, поднятыми высоко над головой, помахивая огромной бутылью водки, уровень которой за время ожидания катастрофически понизился; двигался медленно, задерживаясь на каждой ступени. Вторым был тот пограничник, который настойчиво и неловко подталкивал Сергея, и тот, пятясь, как-то по частям исчезал в проеме дверцы. На наших глазах прощальный лихой жест превращался в панический, опасность — в комическую, и всё вместе — в довлатовский литературный эпизод (в прозу его так и не вошедший). Жаль, что эта сценка не была запечатлена на пленку: Лева Поляков, замечательный фотограф, тоже наш сосед, к тому времени подобный сюжет разработавший, уже был в Нью-Йорке. Жаль. Снимок послужил бы тем самым "недостающим перевальчиком" из одной половины жизни замечательного писателя в другую. Этот момент и стал завершающей точкой в нашем многолетнем общении. За следующие двенадцать лет, не теряя друг друга из вида, обмениваясь редкими приветами, мы не обменялись ни строчкой. Нью-йоркский адрес я надписала всего один раз на бланке скорбной телеграммы к Норе Сергеевне и Лене. В Нью-Йорке я оказалась с непоправимым опозданием: впервые — в 1998 году. И так случилось, что среди первых, кого я увидела на аэродроме Кеннеди после долгих невстреч, была Лена Довлатова, вдова писателя. С ее любезного разрешения я публикую письма, адресованные мне Забегая вперед, скажу, что доверительность, их отличающая, есть результат устоявшихся дружеских отношений, закрепленных одним важным обстоятельством: мы были соседи. ("...в Вашей открытке меня тепло обрадовало слово — сосед". Из письма от 9 янв. 1975, Таллин). Мы жили в пяти минутах ходьбы друг от друга. От его дома на Рубинштейна нужно было повернуть направо, миновать "Пять углов", затем — один квартал по Разъезжей и один по моей улице Правды. На этом пути Сергей износил, пренебрегая условностями и сезонами, не одну пару шлепанцев. Нет, это не эпатаж, не вариант морковки в петлице. шлепанцы, кроме своего удобного прямого назначения, были, думается мне, атрибутом благородного, надежного института соседства, естественным знаком сопричастности, соучастия и, конечно же, доверительности. В наших отношениях не было ни обыденности, ни тем паче фамильярности. Более того, Сергей привносил в них оттенок куртуазности, порой даже чопорной. Впрочем, амплитуда проявлений была далека от ровной однообразности. Не припомню случая, когда бы он зашел второпях или от нечего делать. За все годы только однажды "забежал" — в канун своего отлета. Принес еще один, на сей раз последний, подарок — маленькую фанерку с выжженным на ней и слегка раскрашенным изображением Христа.
Бог миловал. Если было не с чем, он приходил с какой-нибудь новостью, вопросом, микропросьбой или просто с Глашей на руках. Это входило в регламент посещения, но никак не определяло его смысла. Если не заставал, ждал — то растянувшись во весь рост на скамье бульвара, напротив парадной, то сложившись вчетверо на ступенях моей узкой лестницы. Главными в этих приходах были отклик-разрядка на какое-то событие, реакция на свое, и не только свое, житейство, отчаянно непростое, требующее разрешения каких-то перипетий. На протяжении всех лет наши общения, хотя и были частыми, регулярными не были, да и отношения наши ровными не назовешь. Но другом он оказывался всегда замечательным — отзывчивым и трогательным. У меня за годы знакомства создалось впечатление, что к каждому из друзей он был открыт разными гранями Та, что была обращена ко мне, была окрашена прежде всего отчаянием. И на самом деле его путь был мучителен. Не в литературу и не в литературе, но к своему месту в ней. Человек ранимый, он глубоко уязвлялся тем, что как писатель он не был признан. И оттого был равно готов и на скандал, и на компромисс. Это была драма, в которую он вовлекал разное, но, заметим, никогда не терял ни остроумия, ни артистизма, ни своего обаяния. Томас Венцлова называл Довлатова: "Зорба социализма". Очень похоже — и широк, и щедр, и т.п., но... Но вторая часть определения вносит существенный и грустный нюанс: он не был свободен, не был свободен от несвободы. Иногда он невыносимо остро ощущал себя жертвой. Зная наперед причины всех преследующих его обстоятельств, он вопреки всему пытался "вписаться", оставаясь при этом рыцарем высокой литературы. Естественно, не выдерживал, срывался. Это было не всегда весело. Свидетелей тому немало. Его отношение к литературе, к языку в ней было сверхсерьезным. Он насмерть стоял на страже ее эстетики. И все, что на уровне слова, стиля не соответствовало тем нормам, которые он возводил в закон, он расценивал как преступление и был беспощаден в своей критике. Я приведу фрагмент из одного письма ко мне — единственного из всех отпечатанного на машинке, т.е. не о личном. Вот некоторые пассажи из него: "...избегать в поэзии следующих слов: хризантема, олеандр, интермеццо, струна, аккорд, томлюсь, замечательно, влекла, Эвридика (есть даже польская эстрадная песня под таким названием), снеги..." И далее пояснение: "Слово "снеги"
выдумано пошляком
Евтушенко для придания его ничтожным стихам
эпической
мощи". Мне припомнился случай. Однажды днем у меня собралась такая компания: Иосиф Бродский, Евгений Рейн и Сережа Довлатов — одним словом, соседи. Кто-то из них привел с собой впечатляющих статей иноземную студентку, кажется, шведку, в красных колготках. Что весьма стимулировало общий творческий потенциал Тема гостьи была связана с русским фольклором и синонимами в русском языке. Решили подключиться и в качестве "гнездового слова", естественно, выбрали глагол "выпить". В результате получился список более чем в пятьдесят номеров. Из них добрых три четверти принадлежало Довлатову. Он торопился и вынужден был уйти первым, но спустя несколько минут позвонил и существенно дополнил список. Мне не раз доводилось быть свидетельницей тех скандальных ситуаций, в которых он бесконечно оказывался, иногда не без тайного расчета, поскольку, осознанно или нет, часто сам их провоцировал, сам засеивал свое поле, сам и урожай снимал. Из предновогоднего письма 1973 года. Его последний абзац легко узнаваем по знакомому тексту известной таллинской прозы. "Милая Эра, сквозь джунгли безумной жизни я прорвался наконец в упорядоченный Таллин, сижу за дверью с надписью "Довлатов" и сочиняю фельетон под названием "Палки со свалки". Ленинградские дни толпятся за плечами, беспокоят и тревожат меня. Мама в ужасе, Лена сказала, что не напишет мне ни одного письма, долги увеличились, ботинки протекают настолько, что по вечерам я их опрокидываю ниц, чтобы вытекла нефтяная струйка. (...) Очень прошу написать мне такое письмо, чтобы в нем содержался ключ, какой-то музыкальный прибор для установления верного тона. Непосредственности и тем более достоинства во мне нет, и я даже раздражаюсь, когда его ждут. Прошу мириться со всем этим. В Таллине спокойно, провинциально, простой язык и отношения. Улицы имеют наклон и дома тоже. Таллин называют игрушечным и бутафорским — это пошло. Город абсолютно естественный и даже суровый, я его полюбил за неожиданное равнодушие ко мне". Между прочим, я была за этой дверью с надписью "Довлатов". Огромная, пустая, с высокими окнами комната, с двумя нелепыми в ней фанерными канцелярскими столами лицом друг к другу и с пустыней между ними. Их занимали два редактора: самый длинный и "самый наоборот" во всем штате газеты. Они тут же потянули меня к окну, чтобы я прочитала вывеску магазина напротив, а потом каждый к своему столу, откуда открывались фрагменты, начало и конец надписи, лингвистический казус, эффектно и непечатно. На пути в другой город я заехала в Таллинн, приняв приглашение Сережи, оформленное надписью и рисунком. Из надписи: "Я живу, разумеется, плохо, во мне нет непосредственности. Если бы Вы приехали в Таллин и остановились в гостинице "Viru", я бы пешком забрался на 22-й этаж, чтобы выразить Вам свои симпатии". Надпись дополнял замечательный рисунок — автопортрет в полный рост, Довлатов, опирающийся локтем на крышу высотной гостиницы "Виру", внизу — шпили Таллина. Самое удивительное, что ему удалось по тем временам невозможное — достать для меня номер в этой "элитарной" гостинице, и именно на 22-м этаже с видом на всю Эстонию и соседнюю Швецию. Но, увы, я приехала в неудачный день — день тех самых похорон, что описаны в его рассказе "Чьи-то похороны". Вся многоэтажная редакция сверху донизу была пропитана крепким запахом хвои (везде лежали еловые ветки) и алгоголя — в преддверии поминок. Так что времени на встречу было в обрез. Понятно, что к вечеру уже не осталось никакой возможности на нормальное общение, и я уехала. Но зато свидетельствую, что все описанное — правда.  Фрагмент фотопанорамы Таллина. Гостиница "Виру" - слева, с краю
Фрагмент фотопанорамы Таллина. Гостиница "Виру" - слева, с краю
Спустя недолгое время мы столкнулись на Загородном проспекте, рядом с нашими домами, он был не один, с незнакомым мне человеком. И, велев мне встать на оказавшиеся рядом ступеньки какого-то подъезда ("чтобы вас можно было увидеть"), обратился, уже интонируя меня, к своему спутнику: "Всмотритесь, это феноменальное явление. Ей 68 лет". Это было четверть века тому назад Друзья, бывало, не раз удивлялись: что это он тебя словом не задевает? Со временем, однако, и я тоже пополнила когорту жертв довлатовской дружбы. Когда речь идет о писателе, вызывающем к себе всеобщий непреходящий интерес, то каждая деталь становится и ценной, и важной. Письма тем более. Они обладают не только самоценностью. Письма, обращенные ко мне, несмотря на их конкретную адресованность, мне представляются документом значительным. Именно поэтому хранить их только как дорогую реликвию в личном архиве я посчитала для себя неправильным. Они интересны и его преданному читателю, и исследователю его творчества. Они датируются 1973-1976 гг. — временем наступивших и неотвратимых перемен в судьбах многих близких нам людей. Отъезды, переезды, разлучения... Круг друзей редел, и Сергей шел к разрешению угнетавших его проблем, но не прямо, а кругами, как бы постепенно сужая их до точки. В письмах — круги двух его эпопей: Таллинской и Пушкинского заповедника, места, где он впервые обрел славу и популярность — правда, пока еще только в качестве сезонного экскурсовода. В этих письмах сказано, конечно, больше, чем написано. Кроме сближения с уже знакомыми по его прозе сюжетами, они словно создают возможность вовлечения в его литературную работу, в самое начало процесса, когда житейские реалии и ситуации, уже автором пережитые, начинают трансформироваться в литературную действительность, еще раз обнаруживая и природу его таланта, и основы его метода. Кое-кто считает Довлатова писателем одной, общей для человека и автора, неразделенной интонации. Письма вносят коррекцию в это утверждение — по крайней мере для меня. Я процитирую письма, наиболее интересные в этом плане. Милая Эра, (...) 2 Милая Эра! 3 Милая Эра! Спасибо за
поздравление. Надеюсь, все у Вас хорошо, тон добрый. У меня все
по-прежнему.[...] 4 Милая Эра! Я звонил Вам перед
отъездом в жутком состоянии [...]. Рукопись передали главному
цензору республики — Адамсу. Его называют "бревно
с глазами". Он тупица и сталинист. Дело будет обсуждаться в ЦК на
следующей неделе. Защищать рукопись взялся сам Акс[ель] Тамм, большая
здесь, но благородная и невооруженная инстанция — глав. Ред. Издательства.
Он говорит, что еще не все потеряно. Создалась ненужная отрицательная
помпа и
ажиотаж. В наших делах это крайне пагубно. Я убежден, что все
решится скоро и отрицательно. Поверьте, есть основания так считать. Тогда
меня здесь будут удерживать только долги. На детскую книжку плевать. 5 29 [июля 1976] Это приглашение я не приняла, о чем бесконечно жалею И в заключение. Не без смущения переадресовывая целой аудитории с "тысячью биноклей на оси", письма, предназначенные только одному читателю, надеешься, что они внесут свою лепту и что в читательском фокусе образ писателя Сергея Довлатова достроится и станет несколько отличным от того, что уже сложился и даже мифологизировался (как это уже имело место с Владимиром Высоцким). Благодаря им существующая дистанция между составляющими довлатовской триады: человек, автор, персонаж — станет еще более явственной. Схожесть между ними — несомненна, но различие — существенней. Довлатов |
|
 Он
приходил всегда с чем-нибудь. С рукописью — никогда не читал, оставлял; с
книгой, вином. Кстати, он первый, кто открыл только появившийся в городе
итальянский вермут "Чинзано", принеся его мне, заболевшей
Он
приходил всегда с чем-нибудь. С рукописью — никогда не читал, оставлял; с
книгой, вином. Кстати, он первый, кто открыл только появившийся в городе
итальянский вермут "Чинзано", принеся его мне, заболевшей