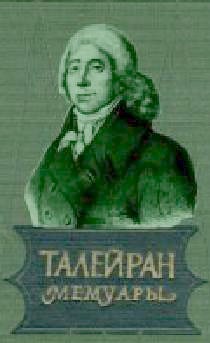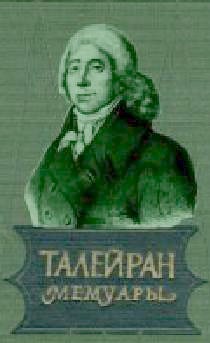
Церковная комиссия
Образованная в январе 1811 года, эта комиссия закончила свою работу в
конце марта. В нее входили кардиналы Феш, Мори и Казелли, архиепископ
турский, епископы гентский, эвреский, нантский, трирский и аббат Эмери...
Она выразила свою глубокую скорбь по поводу прекращения всякого
общения между папой и подданными императора. Она предвидела для церкви
только дни траура и печали в случае, если бы это общение было прервано
надолго...
Это означало, собственно, требование для папы свободы. Но комиссия не
должна была ограничиться упоминанием этого в предисловии. Ей следовало
вернуться к этому вопросу в своих ответах, без чего дело представлялось
так, что она желала избавиться при помощи вводного замечания от
возражения, сильно обличавшего вину Наполеона, чтобы больше к нему не
возвращаться...
Комиссия указала сначала, что папа продолжает отказывать в буллах, не
сообщая никакой канонической причины своего отказа, несмотря на все мольбы
французской церкви и хотя следствия этого делаются со дня на день все
более пагубны. Она напомнила о том, что происходило во времена Иннокентия
XI, когда назначенные королем епископы управляли своими епархиями в силу
полномочий, полученных ими от капитулов. Доказательством служил Флешье,
последовательно назначенный таким образом в Лавор и Ним. Затем она
признала, что, отменив своими посланиями, обращенными к капитулам Парижа,
Флоренции и Асти, этот обычай, всегда существовавший во французской
церкви, папа открыто нарушил издревле принятый в ней порядок, что служит
печальным доказательством внушенных ему предубеждений.
Но император, добавляет комиссия, не желает, чтобы существование
французского епископата продолжало зависеть от церковной инвеституры,
даваемой папой, который был бы в таком случае владыкою епископата. Что же
следует в таком случае предпринять? Она признает, что конкордат дает папе
очень важное преимущество перед французским государем. Монарх теряет право
произвести назначение, если в течение определенного времени он не
представит к сану способное лицо. (В этом случае комиссия допускает
серьезную ошибку: он никогда не теряет этого права, потому что иначе к
кому бы оно перешло?) Равенство в правах имелось бы в том случае, если бы
папа, со своей стороны, был обязан давать инвеституру или сообщить в
течение определенного времени каноническую причину отказа и терял в
противном случае право на выдачу инвеституры, которое переходило бы по
принадлежности. Этого условия в конкордате нет. Его следует добавить к
нему: это самая простая мера, всего более соответствующая истинным
началам. Император вправе, говорила комиссия, этого требовать, а папа
должен на это согласиться (были употреблены именно эти выражения), а в
случае его отказа он оправдал бы во мнении Европы полную отмену конкордата
и переход к другому способу вручения церковной инвеституры. (Комиссия 1809
года не говорила таким твердым и решительным языком.)
Как бы справедлива ни была в данных условиях полная отмена конкордата,
как законно ни было бы восстановление прагматической санкции или иного
способа вручения церковной инвеституры, комиссия считала, однако, что
следовало подготовить к этому умы и убедить верующих в невозможности дать
французской церкви епископов другими способами, без чего положение
епископов, возведенных в сан согласно новым формам, было бы нестерпимо.
Многие стали бы уподоблять это изменение гражданскому устройству
духовенства 1792 года, и оно внесло бы те же самые смуты. Люди знающие
поняли бы, что его нельзя сравнивать с церковным устройством,
декретированным чисто политической властью вопреки желаниям папы и почти
всех французских епископов. Но другие могут не уловить этого различия,
особенно видя, что император с такой горячностью действует всем своим
авторитетом против святейшего отца. Одни стали бы в этой борьбе на сторону
папы против французского епископата, другие, может быть, слишком отошли бы
от папского престола, и в результате возродился бы раскол со всем
сопутствующим ему беспорядком. Его едва удалось потушить в 1801 году при
совершенном единодушии папы и большинства епископов. Разве не следует
опасаться его возрождения в том случае, если бы епископы объявили о своем
несогласии с папой в этом столь важном решении?
Между тем нельзя оставить дело так, как оно есть. Юрисдикция,
предоставленная назначенным епископам капитулами, помимо того присущего ей
важного недостатка, что она не утверждена папой, не дает также епархиям
действительных преимуществ полного епископата. Поэтому на случай, если
папа будет упорствовать в своих отказах, не приводя для них канонической
причины, мы позволяем себе выразить пожелание, чтобы его святейшеству было
заявлено, что конкордат, уже нарушенный его собственными действиями, будет
официально отменен императором, или же что он будет сохранен только с
ограничительным условием; оно должно обеспечивать от произвольных отказов,
делающих призрачными те права, которые он предоставляет нашим государям.
Таковы собственные слова комиссии. Следовательно, она признавала в
данном случае за императором право объявить конкордат отмененным, но не
право установить затем способ обходиться без него. Между тем какой другой
способ мог быть принят, кроме возвращения к старинному праву, по которому
буллы не требовались (я пользуюсь выражением комиссии)? При желании же
сохранить конкордат можно было добавить к нему условие, по которому право
папы, в случае неосуществления его в течение определенного времени,
передавалось бы другой власти.
Таким образом конкордат был бы объявлен отмененным или изменен
внесением в него условия, принятого обеими сторонами н способного
предотвратить все злоупотребления.
Укажу, что в первом случае можно было бы при упорных отказах папы
обходиться совсем без него и искать церковную инвеституру в другом месте.
Комиссия и предлагает это без всяких оговорок. Император не желает больше,
говорит она, чтобы французский епископат зависел от согласия папы на
инвеституру, так как он был бы при таких условиях владыкой епископата; она
находит, что он прав, что справедливо и вполне во власти императора
отменить конкордат, раз он исполняется только им одним. Она не испытывает
на этот счет ни сомнений, ни сожалений. Виноват сам папа. А отсюда едва
один шаг до признания того, что император сможет затем разрешить все
остальные вопросы или позаботиться о способах их разрешения. Если бы
император не сосредоточивал в себе или не имел в своем распоряжении всего,
что нужно для замены папской инвеституры другой, то к чему могло бы
послужить ему право отмены конкордата? Отменив его, он оказался бы в столь
же затруднительном положении, как и раньше.
Однако комиссия не желала сделать этот шаг. Она признала и заявила,
что из принципа, как и из осторожности, следовало созвать национальный
церковный собор, который установил бы, от кого должна исходить эта
инвеститура. Но могла ли она иметь уверенность, что такой собор,
увлеченный партийным духом и всевозможными интригами, признал бы за собой
право на это? Не создаст ли он новых затруднений и осложнений вместо того,
чтобы разрешить те, для устранения которых он призван? Согласится ли он
определить, откуда должна исходить инвеститура епископов? Вопрос мог,
таким образом, оказаться не вполне разрешенным.
Комиссии не следовало так настаивать на праве императора отменить
конкордат и так громогласно об этом заявлять, раз она не могла указать ему
верного способа обойтись без него. В этом заключалась, по моему мнению,
ошибка и непоследовательность комиссии.
Мне казалось иногда, что если бы император назначил нантского епископа
министром по делам вероисповеданий, то удалось бы обойтись без собора,
который мог только запутать вопрос. Этот столь честный, столь искусный и
столь сведущий в богословских вопросах епископ воздействовал бы с тройным
авторитетом министра, епископа и законченного богослова на каждого из
других епископов в отдельности; в этих условиях он гораздо легче получил
бы их согласие на замену папской инвеституры какой-либо другой, церковной
же, чем он мог бы достичь этого на соборе; там каждый епископ боялся
уступить влиянию другого, более искусного, чем он сам, и собравшиеся
вместе епископы не испытывали того страха перед императором, как каждый из
них в отдельности.
Может быть, сам папа вывел бы их всех из затруднительного положения и
дал бы в этот раз инвеституру из опасения потерять это право на будущее.
Но, независимо от такого совершенно гадательного предположения,
следовало обсудить еще другую возможность, кроме отмены конкордата, именно
— его изменение при помощи ограничительного условия, которое навсегда
предотвратило бы злоупотребления. Это было бы, бесспорно, самое
желательное решение, наиболее соответствующее истинным началам и всего
более способное, по признанию комиссии, успокоить совесть верующих.
В самом деле, обе договаривающиеся стороны могли бы признать себя
удовлетворенными им. При составлении текста папа примирил бы это условие
со своими ультрамонтанскими стремлениями, внеся в него положение, по
которому по истечении трех или шести месяцев он уполномочивал бы
архиепископа заменить его; он оставался бы всегда источником власти и ни в
чем не ограничил бы самых требовательных своих сторонников; я полагаю, что
при умелом ведении переговоров от папы можно было добиться этой уступки.
Император, со своей стороны, получил бы все, чего он желал, и больше того,
к чему он стремился до тех пор; до созыва комиссий он желал лишь, чтобы
папа давал буллы епископам, которых он назначал, и соглашался даже, чтобы
папа не вносил в них имени императора; идя указанным мною путем, Наполеон
получил бы сверх обещания папы не отказывать в будущем в буллах то
преимущество, что в данное время не пришлось бы заменять инвеституру, в
которой папа отказал другим столь же каноническим установлением. Если бы
удалось добиться этого от папы без возвращения ему Рима и других его
областей, это был бы триумф, достойный сказочной судьбы Наполеона, триумф,
в тысячу раз более значительный по своим последствиям, чем он мог быть при
национальном церковном соборе.
Но прежде всего комиссия сама создала препятствие для такого
ограничительного условия. Признавая внесение его в конкордат весьма
желательным, она продолжала твердить, что для этого, как и для того, чтобы
обойтись без такого условия следовало созвать национальный собор, который
не мог в сущности положить конца затруднениям: если бы собор обошел вопрос
вместо разрешения его, к чему бы это привело? Между тем она была далека от
намерения устранить мысль о переговорах, но только, будучи собрана не для
этого, не считала себя вправе внести такое предложение.
Нантский епископ отважился попытать непосредственно у императора то,
на что не считала себя вправе комиссия; он опасался, вероятно, шума,
который вызвало бы внезапное упразднение конкордата: при объяснении
соответствующим декретом мотивов этой меры были бы, конечно, употреблены
резкие выражения, грозившие нежелательными последствиями. Дювуазен боялся,
может быть, также настроений собора или тех стремлений, которые были бы
ему внушены уже после его созыва. Поэтому он энергично настаивал перед
императором, чтобы он дозволил трем членам комиссии отправиться к папе,
если уж ему не подобало самому послать их, чтобы они попытались в
последний раз воздействовать на него.
Император очень долго сопротивлялся, и Дювуазену стоило больших трудов
заставить его уступить. В минуту горячности Наполеон решил уничтожить
конкордат, а раз заявив об этом, он не желал отступаться от своих слов; по
правде сказать, я полагаю, что он видел в этом для себя известную честь,
которая была между тем невелика. Он желал, как он говорил, покончить
вопрос с папой и считал, что, уничтожив конкордат, он завершит все дело.
Правда, он согласился на созыв собора, но он полагал, что его можно не
опасаться. “Когда конкордат будет отменен декретом, — говорил он, — собору
придется, если он захочет сохранить епископат, предложить другой способ
инвеституры для епископов, потому что уже нельзя будет руководствоваться
несуществующим конкордатом”.
Дювуазен не признал себя побежденным и продолжал настаивать; наконец
он убедил императора, который уступил очень неохотно и попытался своими
инструкциями увеличить трудности, вместо того чтобы устранить их;
казалось, что он желает неудачи переговоров. Стало известно, что
инструкции, данные министром по делам вероисповеданий епископам, которые
отправлялись в Савону, были продиктованы императором. Министр, не желавший
нести за них ответственность, сказал это нескольким видным представителям
духовенства.
Вместо того чтобы ограничиться одним важным пунктом, по которому нужно
было добиться от папы уступки, Наполеон пожелал, чтобы епископы предъявили
святейшему отцу самые недопустимые требования; император давал делу такое
направление, как будто он оказывал папе милость, предлагая сохранить
конкордат, тем более с внесением в него ограничительного условия, как он
того желал. Епископы должны были прежде всего сообщить папе о созыве
национального собора на 9 июня следующего года и изложить ему меры,
которые французская церковь могла оказаться вынужденной принять, пользуясь
для этого древними примерами. Он согласится восстановить конкордат,
говорил он в инструкциях, только при условии, чтобы папа дал сначала
инвеституру всем назначенным епископам и признал на будущее время право
архиепископов вручать епископам инвеституру в тех случаях, когда он сам в
течение трех месяцев не сделает этого. Он желал, и это было официальное
приказание, чтобы делегаты заявили папе, что он никогда не вернется в Рим
в качестве государя, но что ему будет разрешено возвратиться туда как
простому главе католической религии при условии его согласия на требуемое
от него изменение конкордата. В случае, если он признает для себя
неудобным вернуться в Рим, он сможет устроить свою резиденцию в Авиньоне,
где он будет пользоваться почестями, отдаваемыми государям, и где он будет
свободно управлять духовными делами других христианских стран. Наконец,
ему должны были предложить два миллиона — все это при условии, что он
обещает не предпринимать в империи ничего противоречащего четырем статьям
1682 года.
Для переговоров к нему были отправлены три следующих депутата:
архиепископ турский, епископ нантский и епископ трирский, к которым
прикомандировали фаенцкого епископа, назначенного Наполеоном венецианским
патриархом и тоже отправленного в Савону. Они были выбраны депутатами
всеми кардиналами и епископами, находившимися тогда в Париже, которые
вручили им семнадцать писем, адресованных святейшему отцу; самым
пространным и самым настоятельным было письмо кардинала Феша.
Снабженные этими письмами, инструкциями и полномочиями для заключения
и подписания соглашения, три депутата отправились в конце апреля 1811 года
в путь и прибыли в Савону 9 мая. Им было решительно предложено вернуться в
Париж за восемь дней до открытия собора, то есть до 9 июня, и они в самом
деле покинули Савону 19 мая.
Содержание девяти писем, присланных ими из Савоны министру по делам
вероисповеданий, и более подробного письма, написанного ими затем в Париже
по их возвращении туда, обнаруживает, с какой мудростью и умеренностью они
вели эти переговоры; оно показывает, как, ничего не скрывая от папы, они
заставили его проявлять с каждым днем все большую уступчивость; наконец,
они побудили его согласиться на главные условия, которые им было поручено
предложить или, если угодно, предписать ему, внеся в них лишь несколько
незначительных изменений.
Следует отметить, что, приняв их на другой день по их прибытии, папа
обнаружил сначала некоторое опасение, не явились ли они объявить ему о
том, что созываемый собор будет судьей его образа действий. Это
предположение было решительно отвергнуто, и для успокоения папы были
применены самые почтительные приемы. В свое время многие утверждали, что
обнаруженный им тогда страх мог оказать некоторое влияние на его
благожелательное настроение. В первые дни он возражал без раздражения, с
чрезвычайной сдержанностью, и даже высказал несколько слов благоволения по
адресу императора; но то, что от него просили, было настолько важно, что
ему нужно было посовещаться об этом со своими привычными для него
советниками, и он жаловался, что его лишили их. Делегаты не могли вернуть
их, но они не пренебрегли ничем, чтобы убедить его, что он не будет более
лишен их, когда разделит примирительные и миролюбивые взгляды, которых
выразителями перед ним они являлись; они указывали, что вопрос о буллах не
требует ни больших обсуждений, ни советников, что в сущности заявляемое
требование справедливо и что он должен ясно понимать, насколько важно для
блага верующих, епархий и религии, чтобы он дал буллы назначенным
епископам; они доказывали ему, насколько в его собственных интересах
важно, чтобы в качестве наместника апостола Петра он согласился на
внесение в конкордат нового условия и сохранил эту драгоценную связь с
французским епископатом, которая порвалась бы в случае объявления
конкордата упраздненным.
Папа делал новые возражения, которые, однако, слабели с каждым днем;
он выражал сожаления и никогда не обнаруживал проявлений злой воли.
Епископы не спешили говорить с ним о державной власти Рима из боязни
повредить основной задаче переговоров. Впрочем, они вывели заключение,
что, уже не надеясь больше вернуть себе эту власть, святейший отец будет,
конечно, продолжать протестовать по этому поводу, так как он не имел права
пожертвовать ею; им было ясно, что он, вероятно, скорее обяжется не
возвращаться в Рим, чем согласится принести присягу, которой он признал бы
императора государем Рима; наконец, они заключили о понимании им того, что
потеря этой державной власти не может помешать ему править церковью, как
только ему вернут его советников. Итак, папа покорился необходимости, а
это было все, что требовалось депутатам, которые вели переговоры.
Настоящего обсуждения буллы об отлучении не было, хотя епископы и
имели случай высказать свое мнение о ней. Им казалось, что святейший отец
не придает ей большого значения и что он легко согласится считать ее
недействительной.
Папа осторожно, но настойчиво противился требованию дать обещание, что
он будет считать четыре статьи 1682 года обязательными для французского
духовенства. Он был явно настроен в пользу первой из этих статей,
признающей независимость светской власти. Но зачем, говорил он, требовать
от него заявления по трем другим статьям? Он давал слово ни в чем не
действовать вопреки им, — можно было положиться на него. Почему требовать
от него того, что не требовалось никогда ни от одного папы,
именно—письменного обещания по этому вопросу? С той и другой стороны,
говорил он, речь идет о свободных убеждениях. Сам Боссюэ не желал ничего
большего. Он был далек от того, чтобы излагать свои убеждения итальянским
богословам и тем более папе. Святейший отец часто возвращался к вопросу о
булле Александра VIII (Оттобони), преемника Иннокентия XI, который не
ослабил непреклонности, отличавшей его предшественника, и издал за три дня
до своей смерти буллу против декларации 1682 года. Он признавал, что булла
эта не имела последствий, не пытался оправдать ее, но ведь не его дело —
осуждать образ действий своего предшественника и винить его. Разве Италия
и весь христианский мир не сказали бы, что он согласился дать это обещание
потому, что ему наскучил плен? Такое подозрение легло бы позором на его
память. Впрочем, эти вопросы сложны и трудны, и никогда он не нуждался в
такой степени в советниках....
“Что касается булл, то нам удалось, — писали три епископа, — добиться
от папы лишь обещания выдать их только уже назначенным епископам; он
считает невозможным решить что-нибудь на будущее время без своих
советников и, следовательно, согласиться на внесение в конкордат нового и
притом столь важного условия. Мы исчерпали по этому вопросу все мыслимые
доводы и соображения и с сожалением уведомили о нашем предстоящем
послезавтра отъезде. Этот быстрый отъезд, казалось, огорчил его; он
поручил выразить нам желание снова свидеться с нами; мы подчинились его
повелению, и нам показалось, что он стремится только к тому, чтобы
заменить трехмесячный срок для своего права давать инвеституру
шестимесячным сроком. Мы предполагали, что это не составит большой
трудности, и высказали ему нашу уверенность на этот счет. Наконец, шаг за
шагом, мы заставили его согласиться на следующие статьи, записанные
отчасти под его диктовку; копию их он хотел сохранить у себя, как
свидетельство, говорил он, его уступчивости и его пламенного желания
восстановить мир в церкви”.
Статьи, принятые папой
“Его святейшество, принимая во внимание нужды и пожелания французской
и итальянской церквей, изложенные ему архиепископом турским и епископами
нантским, трирским и фаенцким, и желая дать этим церквам новое
доказательство своей отеческой любви, объявил вышеназванным архиепископу и
епископам:
“1. Что он даст церковную инвеституру лицам, назначенным его
императорским и королевским величеством архиепископами и епископами по
форме, установленной в эпоху конкордатов с Францией и Италией.
“2. Его святейшество согласен распространить ту же самую меру на
тосканскую, пармскую и пьяченцкую церкви посредством нового конкордата.
“З. Его святейшество согласен на внесение в конкордаты условия, по
которому он обязуется давать епископам, назначенным его величеством, буллы
об инвеституре в течение определенного срока, который должен быть, по
мнению его святейшества, не короче шести месяцев; на случай, если он
промедлит более шести месяцев по другим причинам, чем личные качества,
делающие назначенных лиц недостойными, он вручит архиепископу вакантной
церкви, а за его отсутствием старейшему епископу провинции полномочия
выдавать по истечении шести месяцев буллы от его имени.
“4. Его святейшество решается на эти уступки лишь в надежде, вызванной
в нем его беседой с епископами-депутатами, на то, что они подготовят
соглашения, которые восстановят порядок и мир в церкви и вернут папскому
престолу подобающие ему свободу, независимость и достоинство.
Савона, 19 мая 1811 г.”.
Согласие, полученное таким образом от папы, ознаменовало собой большой
успех, так как оно прекращало на будущее время все споры между французским
правительством и римским двором. Каким образом мог бы последний впредь
нарушать во Франции порядок? Церковная инвеститура епископов была
единственным орудием, при помощи которого папа мог создать своим отказом
или бездействием беспорядок; его действия никогда не нарушили бы
нормального хода дел, так как они могли выражаться только в посланиях,
буллах.., а Франция всегда придерживалась обычая не разрешать их
опубликования до рассмотрения их и до заключения о том, что они не
содержат ничего противного законам страны. Это парализовало бы враждебную
волю папы и даже всякий нежелательный раскол. Было безразлично, что думает
папа о галликанских правах, раз он не имел власти помешать их
осуществлению. Поэтому попытка заставить его заранее подписать в этом
смысле известное обещание была совершенно бесполезна. Папа сам сказал это,
и потому применявшаяся к нему тирания была бесцельна. Святейший отец дал
свое слово, и это превосходило по своему значению все когда-либо сделанное
каким-либо папой; даже если бы он этого словесного обещания не дал, отсюда
не проистекло бы никакой опасности, ни даже малейшего неудобства.
Я забыл сказать, что существовал вопрос, по которому, как он обнаружил
в беседе, папа никогда бы не уступил: это касалось намерения императора
сохранить за собой право назначения на все итальянские епископства с
предоставлением папе инвеституры. “Как, — говорил он с волнением, — папа
не сможет награждать даже кардиналов, послуживших с рвением и талантом
папской власти, он не сможет назначать епископов нигде во всем
христианском мире, включая и церкви, с незапамятных времен входившие в
римскую епархию, права которых будут уничтожены простым конкордатом? Это
было бы, однако, ужасно...”
Это его собственное выражение, единственное в таком роде, вырвавшееся
у него во время его переговоров с французскими епископами. Они ничего не
могли возразить ему по этому вопросу, настолько естественным казалось им
требование святейшего отца.
Они имели случай говорить с ним о двух миллионах в земельных
имуществах, назначенных декретом от 17 февраля 1810 года на содержание
папы. Пий VII начал с очень твердого отказа и пожелал повторить то, что он
сказал в самом начале, именно, что он желает существовать скромно, на
помощь, оказываемую ему милосердием верующих. Но при всем благородстве
этого решения епископы возражали против него, указывая на то, что он не
должен лишать своих преемников светских преимуществ, даваемых императором,
державных почестей, возможности общения с католическими государями, а
также средств, необходимых для содержания св. коллегии кардиналов, которое
возлагалось декретом от 17 февраля 1810 года на императорскую казну.
Эти соображения, казалось, заставили его поколебаться: он больше не
настаивал, но вопрос этот остался нерешенным.
Епископы вернулись во Францию, убежденные, что если щадить его чувства
и предоставить ему свободу и добрых советников, то святейший отец может
сделать новые уступки по нескольким довольно важным вопросам. Но они
добились уже самого главного.
Столь удачно начатые переговоры должны были бы привести к окончанию
всех споров.
Что следовало сделать для этого? По-видимому, только одну вещь - не
допустить созыва собора и отсрочить его на месяц. За это время Наполеон
пришел бы к соглашению с папой относительно булл и добавления нового
условия, не смешивая этого с другими вопросами. Он вернул бы ему
нескольких советников и достаточную свободу, и папа счел бы делом чести
подтвердить то, что он обещал в силу внутреннего убеждения, как это по
крайней мере казалось.
Раз этот договор был подписан, император не нуждался больше в соборе,
и он должен был иметь тем более сильное поползновение бесконечно
отсрочивать его, что его созыв уже выставил его в несколько смешном виде,
в чем он не мог не признаться самому себе. К тому же не удобнее ли было бы
для него закончить дело с самим папой, все возражения которого он
преодолел бы при помощи своих делегатов, чем вести переговоры с собранием,
которое, наверно, оказалось бы беспорядочным и которым он, вероятно, не
смог бы управлять? Имея обещание папы, для чего можно было желать собора,
созванного лишь при предположении, что папа никогда не согласится дать
инвеституру назначенным епископам, а тем более связать себя на будущее
время и утратить право отказывать в этой инвеституре? Между тем он на все
это согласился, и уже можно было составить договор. Может быть, имелись
основания полагать, что собор будет стремиться к другому решению по этому
вопросу? Тем хуже! А если бы он желал того же самого, то к чему могло
послужить его вмешательство? Оно было очень неприятно папе, как мы это
видели. Для императора оно могло быть удобно при условии, которое не имело
места. Но при всяких условиях он должен бы был предпочесть обойтись без
собора. Мог ли Дювуазен быть уверен, что ему удастся руководить по своему
желанию этими девяноста пятью французскими и итальянскими епископами и
что, несмотря на сговорчивость каждого из них в отдельности, они не дадут
увлечь себя в общем собрании? И именно понимание того обстоятельства, что
им не предстоит больше принимать никаких решений, должно было побудить их
создавать многочисленные затруднения, возбуждать спорные и досадные
вопросы, чтобы их не упрекнули в том, что они не сумели ничего сказать и
ничего сделать.
Император рассчитывал, конечно, на влияние, которое мог приобрести в
его интересах кардинал Феш, председательствовавший на соборе. Но тут он
ошибся, как и во всем том, что он делал для возвышения членов своей семьи
в надежде затем их использовать. Его дяде, кардиналу Фешу, нужно было
заставить окружающих забыть о своем происхождении, и он хотел, подобно
братьям Наполеона, придать себе значение своим противодействием его
желаниям, своей непреклонностью, а не влиянием на племянника.
Ни император, ни даже нантский епископ, которому его успех в Савоне
должен был это разъяснить, не понимали всего значения созыва собора.
Наполеон, которого не обезоружили ни жестокая судьба папы, ни громадные
уступки, сделанные им, несмотря на его положение, имел наготове несколько
оскорбительных для папы фраз и не хотел от них отказаться. Он придавал до
смешного большое значение тому, чтобы произнести их на соборе, и не
помышлял о том, что даже самое трусливое собрание не сможет отказать хотя
бы в видимом участии святейшему отцу, повергнутому в бедствия, и что оно
не захочет громогласно обесчестить себя.
Может быть, нантский епископ обольщал себя также надеждой, — и в этом
он ошибался, — на то, что он будет оказывать на собор решающее влияние
вследствие своей большой умелости и своего легкого и блестящего
красноречия. Он рассчитывал сначала заинтересовать собрание, а затем
приобрести права на его доверие, отдав ему отчет в своих совещаниях с
папой. Ему удалось только вызвать зависть. Члены собора не простили ему
его успехов, они отказывались верить в них, а так как четыре статьи, на
которые святейший отец согласился, не были им подписаны, то говорилось,
что им нельзя придавать никакого значения. Кроме того было известно, что
император оказывает нантскому епископу особую благосклонность, что он
часто с ним сносится; его немедленно превратили в фаворита, и поэтому его
слова перестали внушать доверие. Затем, уступая порыву, император говорил
о соборе так же резко, как о папе, и возникло предположение, что Дювуазен
подстрекал его к употреблению таких выражений. Наконец, читая в собрании
проект адреса императору с ответом на его послание, он проявил
непостижимую неловкость: пытаясь устранить некоторые замечания, сделанные
ему касательно формы адреса, он заявил, что проект в том виде, как он
только что прочел его, уже сообщен императору, и это безвозвратно погубило
нантского епископа.
Для меня совершенно очевидно, что не было ни одного момента, когда бы
Наполеон не должен был раскаиваться в том, что он созвал собор и дал ему
собраться; после возвращения депутации из Савоны ему следовало понять, до
какой степени он стал для него бесполезен и в какой мере он мог оказаться
роковым для него. Также несомненно, что, ввиду намерения императора
воспользоваться этим собранием в интересах своей власти, нельзя было
усвоить более неумелый образ действий, чем тот, которому следовал он.
Я хочу лишь бегло охарактеризовать направление, принятое этим
собранием, и изобразить несколько связанных с ним эпизодов.
Созыв собора был назначен на 9 июня 1811 г., но под предлогом крестин
римского короля, сына Наполеона, его открытие состоялось лишь 17 июня в
церкви Нотр-Дам. Труаский епископ Булонь произнес проповедь. Собрание
насчитывало девяносто пять епископов, из коих шесть были кардиналами, и
девять епископов, назначенных императором, но не получивших от папы
инвеституры. Кардинал Феш сразу же взял на себя, как мы говорили,
председательствование, которое никто у него не оспаривал, и включил в свой
титул звание галльского примаса, по праву принадлежавшее ему как лионскому
архиепископу. Дальше будет видно, почему я упоминаю об этой подробности.
После проповеди председатель произнес обычную клятву, повторенную вслед за
ним всеми епископами и заключавшуюся в следующих словах:
“Я признаю святую католическую, апостолическую римскую церковь, мать и
владычицу всех других церквей; клянусь истинным послушанием римскому папе,
преемнику св. Петра, князя апостолов и наместника Иисуса Христа”.
Это клятвенное обещание произвело большое впечатление, направив
внимание на несчастную жертву, к которой оно было обращено. Этим
ограничилось заседание в тот день.
На другой же день после открытия, 18 июня, Наполеон пригласил
нескольких епископов в Сен-Клу на одно из тех вечерних собраний, которые
назывались выходами. На нем присутствовали Императрица Мария-Луиза и дамы,
дежурившие при ней, как и много других лиц, среди коих — принц Евгений,
вице-король Италии. Император, пивший кофе, который ему наливала
императрица, велел ввести кардинала Феша, нантского епископа Дювуазена,
трирского епископа Маннейя, архиепископа турского Барраля и одного
итальянского прелата. В тот момент, когда они входили, император быстро и
так, чтобы они это видели, взял “Монитор”, который был положен, вероятно,
по его приказу на один из столов. С этой газетой в руках он обратился к
вошедшим. Возмущенный вид, который он принял, резкость и необузданность
его выражений, как и поведение тех, к кому он обращался, превратили это
странное совещание в сцену, какие он любил разыгрывать, обнаруживая в них
свою ничем не прикрытую грубость.
Протокол первого заседания собора был приведен в “Мониторе”, который
держал император; он мял его в руках. Сначала он напал на кардинала Феша,
причем интересно то, что он сразу, без всякого исторического или
богословского вступления, пустился со странным многословием в обсуждение
церковных начал и обычаев.
“По какому праву, милостивый государь, — сказал он кардиналу, —
присваиваете вы себе титул галльского примаса? Какое смешное притязание!
Да еще не испросив моего разрешения! Я вижу ваше лукавство, его нетрудно
распознать. Вы захотели возвеличить себя, милостивый государь, чтобы
привлечь к себе внимание и подготовить этим публику к еще большему
возвышению в будущем. Пользуясь своим родством с моей матерью, вы
стараетесь убедить окружающих, что я сделаю вас главой церкви, потому что
никому не придет в голову, что вы имели дерзость принять без моего
разрешения титул галльского примаса. Европа будет думать, что этим я хотел
подготовить ее к тому, чтобы видеть в вас будущего папу. Недурной папа,
поистине!.. Этим новым титулом вы хотите встревожить Пия VII и сделать его
еще более несговорчивым!”
Оскорбившийся кардинал ответил с твердостью и заставил своим спокойным
ответом забыть недостаток достоинства в его облике, тоне, манерах и даже
его прежнюю деятельность, (* В первые годы морской войны, то есть в 1793 ,
1794 и 1795 годах, кардинал Феш плавал на каперском судне, называвшемся
“Авантюрист”. Он захватил, несколько судов, доставленных им в Геную и
послуживших причиной процессов, которые он с жаром вел в трибуналах этого
города и по поводу которых он, насколько мне известно, несколько раз
обращался к правительству за поддержкой. Примечание Талейрана.) следы
которой проявлялись в нем слишком часто, так как под одеждой архиепископа
нередко обнаруживался прежний корсар; но тут, перед императором, на его
стороне были все преимущества: он объяснил, что во Франции существовали во
все времена не только галльский, но и аквитанский и нейстрийский примасы.
Несколько изумленный, Наполеон обратился к нантскому епискому и спросил
его, верно ли это. “Факт этот неоспорим”,—сказал епископ. Тогда император
оставил кардинала, на которого он так напал. Он направил свой гнев на
других и по поводу содержавшегося в клятве слова “послушанием”, которое он
смешал с “повиновением”, он разгорячился до того, что назвал отцов собора
предателями. “Потому что, — добавил он, — те, которые приносят две присяги
двум враждебным государям, — предатели”.
Нантский епископ произнес несколько слов, но император его не слушал.
Он не обращал внимания на грустный, недовольный и задумчивый вид Дювуазена
или подавленный вид Барраля и Маннейя, ни на покорную внешность итальянца
или виляние разгневанного кардинала Феша; он продолжал говорить в течение
часа так бессвязно, что слушатели сохранили бы только воспоминание о его
невежестве и многоречивости, если бы приводимая ниже фраза, которую он
повторял каждые три-четыре минуты, не раскрыла его главной мысли:
“Милостивые государи, — кричал он им, — вы относитесь ко мне так, как
будто я был Людовиком Благочестивым. Не смешивайте сына с отцом. Вы видите
перед собой Карла Великого... Я — Карл Великий, я... да, я — Карл
Великий!” Эту фразу “Я—Карл Великий!” он повторял ежеминутно. После
нескольких неудачных попыток разъяснить ему разницу между словом
“послушание”, относящимся только к духовным властям, и словом
“повиновение”, имеющим более широкий смысл, епископы отказались, наконец,
от своих бесплодных усилий. Им не оставалось ничего иного, как ждать в
глубочайшем молчании, чтобы утомление прекратило этот беспорядочный поток
слов. Тогда, воспользовавшись минутным перерывом, нантский епископ выразил
императору желание побеседовать с ним наедине. Наполеон вышел, и он
последовал за ним в его рабочую комнату. Было уже около полуночи, и все
удалились, унося из Сен-Клу своеобразное впечатление.
В результате этой сцены император потребовал, чтобы оба министра по
делам вероисповеданий — французский, Биго де Преамено, и итальянский,
Бовара — присутствовали на всех заседаниях собора. Это значило добавить
новую нелепость к стольким другим; эти два мирянина могли занять на чисто
церковном собрании, в совещаниях которого они не имели права участвовать,
лишь положение, одинаково обидное как для собрания, так и для них самих.
Итак, оба министра явились на второе заседание собора, происходившее
20 июня. Они предъявили декрет императора, предписывавший создать бюро из
председателя, трех епископов и обоих министров, которое должно было
руководить деятельностью собора. По этому поводу возникли некоторые споры,
но, несмотря на это, было составлено бюро из кардинала Феша в качестве
председателя, бордоского архиепископа (Авио), равенского архиепископа
(Кодронки), нантского епископа и обоих министров. Последние прочли затем
послание императора, представлявшее собой длинный манифест, направленный
против Пия VII и всех вообще пап. Император сделал все для религии; папа
делал все против нее во Франции и в Италии — таков был в итоге смысл этого
послания, составление которого приписывалось в свое время Дону, бывшему
члену конгрегации Оратории. В нем заявлялось, что папа нарушил конкордат и
что, следовательно, он отменен, а собранию предлагалось найти новый способ
обеспечить епископам инвеституру. Эта резкая критика оказала действие как
раз обратное тому, на какое рассчитывал император, именно — усиление
участия к оклеветанному и гонимому римскому папе. В том же самом заседании
большинство высказалось за исключение из совещаний девяти епископов,
назначенных императором и не возведенных папой в сан, которые участвовали
до того в работах собора. Это было уже дурное предзнаменование для
правительства.
25 июня собор назначил комиссию для составления адреса императору в
ответ на его послание. В нее входило двенадцать членов, включая
председателя, кардинала Феша; среди них были кардиналы Спина и Казелли,
заключившие от имени Пия VII конкордат 1801 года, архиепископы бордоский и
турский, епископы комаккиоский, ивреаский, турнэский, труаский, гентский,
нантский, трирский. Проект адреса обсуждался 26-го того же месяца;
обработка его была поручена нантскому епископу, и во время этого
обсуждения он проявил, как я говорил, исключительную неловкость,
проговорившись, что его проект был уже представлен императору; это не
помешало большинству высказаться против той части его, которая заключала
осуждение буллы об отлучении. На следующий день, 27 июня, после принятия
адреса в исправленном виде один епископ, как мне кажется шамберийский,
внес в очень трогательных выражениях предложение, чтобы собор в полном
составе отправился в Сен-Клу просить императора вернуть папе свободу.
Кардинал Феш поспешил закрыть заседание, желая пресечь это предложение,
которое, наверное, было бы в противном случае принято.
Наполеон, очень недовольный, отказался принять адрес. Теперь комиссии
двенадцати следовало высказаться по сделанному правительством предложению:
нужно было найти способ обходиться без участия папы в выдаче церковной
инвеституры епископам в тех случаях, когда он в ней отказывал. Нантский
епископ сделал доклад о работах комиссии 1810 года по этому вопросу, а
турский архиепископ Барраль дал отчет о путешествии трех епископов в
Савону и закончил чтением записки, составленной на глазах святейшего отца
и одобренной, но не подписанной им.
Эта тема была немедленно устранена, и один член комиссии предложил
раньше всего разрешить вопрос о компетенции собора. Предложение это
вызвало оживленные прения, во время которых гентский епископ (Брольи)
выступил с жаром против признания компетенции собора. Наконец, когда был
поставлен вопрос: компетентен ли собор установить другой способ возведения
в сан епископов, восемь членов высказались в отрицательном смысле, а три
епископа, бывшие депутатами в Савоне, — в положительном. Кардинал Феш
воздержался от голосования,
Наполеон впал в ярость, когда узнал об этом результате: он восклицал,
что прогонит собор, что он не нуждается в нем, что он сам издаст декрет,
которому все подчинятся и в который он внесет уступки, полученные в
Савоне. Нантскому епископу удалось и на этот раз успокоить его; он побудил
его согласиться на предложение собору проекта декрета, в который были бы в
самом деле включены уступки, сделанные папой в Савоне, но с добавлением
статьи с выражением благодарности папе за эти уступки: собрание просили бы
голосованием одобрить этот проект.
Комиссия двенадцати приняла проект декрета, однако с той оговоркой,
что до получения им силы закона он будет представлен папе на утверждение,
что означало, собственно, признание собора некомпетентным. Исправленный
проект декрета был сообщен 10 июля собору, и в тот же вечер Наполеон
отправил в Венсен трех членов комиссии: гентского епископа Брольи,
труаского епископа Булоня и турнэского — немца, имя которого я забыл;
декрет императора объявил собор распущенным.
Этот роспуск собора, постановленный ab irato, эти насилия над тремя из
его членов не могли ничего разрешить и даже создавали новые затруднения;
после этого уже нельзя было послать папе проект декрета от имени собора,
который был распущен и притом главным образом именно за то, что он
настаивал на представлении этого проекта на одобрение святейшего отца.
Таким образом то, что могло быть отлично сделано до собора и,
следовательно, без него, теперь уже стало неосуществимо. Приведенный в
замешательство результатами своей горячности, Наполеон был вынужден
отказаться от сделанного; ему пришлось прибегнуть к жалкому средству —
восстановить собор; если это можно так назвать, после роспуска его.
Собрали епископов, еще не покинувших Париж или задержанных там особым
приказом. Их пригласили, каждого в отдельности, к министру по делам
вероисповеданий и получили от них письменное одобрение проекта декрета,
однако с добавлением новой статьи; она устанавливала, что декрет будет
предложен на утверждение папы и что у императора будет испрошено для
депутации из шести епископов разрешение отправиться к святейшему отцу,
чтобы просить его об утверждении декрета, который один только мог положить
предел бедствиям французской и итальянской церквей.
В этом заключалась двойная непоследовательность, так как, с одной
стороны, на одобрение папы представляли предложения, на которые он уже
согласился, а с другой — просили его одобрения, хотя собор был распущен
именно за то, что он желал обратиться к нему за этим одобрением.
Более подавленные, чем раздраженные, епископы подписали каждый в
отдельности то, что им было предложено, и в общем заседании 5 августа 1811
года они приняли посредством вставания или сидения (новый способ
голосования, проведенный кардиналом Мори при помощи хитрости) следующий
проект:
“Статья I. Согласно духу церковных уставов архиепископства и
епископства не должны будут оставаться незамещенными в общей сложности
более года. За этот период времени должны быть произведены назначение,
вручение инвеституры и посвящение.
“Статья II. У императора испросят, чтобы он продолжал производить
назначения на свободные кафедры согласно конкордатам, и лица, назначенные
императором, будут обращаться к нашему святейшему отцу, папе, за церковной
инвеститурой.
“Статья III. В течение шести месяцев после уведомления папы обычным
путем об указанном назначении папа будет давать церковную инвеституру
согласно конкордатам.
“Статья IV. Если до истечения шести месяцев папа не даст инвеституры,
то архиепископ или за отсутствием его старейший епископ области возведет в
сан назначенного епископа, а если бы дело шло о возведении в сан
архиепископа, то инвеституру передаст старейший епископ области.
“Статья V. Настоящий декрет будет представлен на одобрение нашего
святейшего отца, папы, и с этой целью у его величества будет испрошено для
депутации из шести епископов разрешение отправиться к его святейшеству,
чтобы просить его утвердить декрет, который один только может положить
предел бедствиям французской и итальянской церквей”.
В сущности не было решительно никакой разницы между тем, что было
предложено собором вначале, и что было принято новым собранием. Статья V
требует одобрения святейшего отца, в то время как по первоначальному
проекту требовалось одобрение императора. Правда, что последнее было
довольно бесполезно, потому что проект представлял собой дословное
выражение собственного требования императора. Для чего же в таком случае
представлять его ему на утверждение? Но такая буквальная замена одного
выражения другим могла показаться ему оскорблением, если бы ему ее
предложили; поэтому я считаю, что собрание не дерзнуло бы просить у него
об этом и что оно было весьма счастливо, что получило декрет, уже
одобренный императором, так как редакция его была предложена самим
Наполеоном, то есть его советом. Его одобрение предполагалось уже
предложением, сделанным собору от его имени, посылкой к папе депутации и
инструкциями, которые он дал этой депутации. Что же касается утверждения,
возложенного на папу V статьей декрета и которому собор придавал столь
большое значение, то нантскому епископу было нетрудно убедить императора,
что первый проект, столь гневно им отвергнутый, был в сущности лишь
формой, при помощи которой у папы спрашивали, узнает ли он свое
собственное произведение. Нет ничего неуместного в том, добавил он, чтобы
дать собору это маленькое удовлетворение, причем он соглашался разъяснить,
что суровость императора в отношении некоторых из его членов была вызвана
не тем, что они желали внести эту статью в декрет, а проявленным ими
враждебным отношением к правительству.
Через несколько дней, 19 августа, восемьдесят пять епископов, в число
коих входили на этот раз девять епископов, не получивших инвеституры,
подписали сообща письмо к папе, в котором они просили его утвердить
декрет. Затем было назначено девять депутатов, чтобы доставить это письмо
к нему в Савону. Это были архиепископы малинский, павийский и турский,
епископы эвреский, нантский, трирский, пьяченцкий, фаенцкий и фельтреский;
чтобы папа не мог жаловаться на то, что он лишен своего совета, к нему
отправили также пять кардиналов: Дориа, Дуньани, Роверелла, Байанна и
Руффо, поддержку которых, как я имею все основания думать, император тайно
обеспечил себе. Наконец, одновременно отправили туда cameriere secreto
папы, Берталоцци, и его духовника.
Они прибыли в Савону в конце августа. Папа принял их лишь 5 сентября;
говорят, что он встретил их с такой же благосклонностью, как и первую
депутацию. Он не знал того, что произошло на соборе; впрочем, он никогда
не произносил этого названия, всегда заменяя его словом “собрание”, — это
доказывает, как легко было бы после первой депутации прийти к соглашению с
папой по основному вопросу, касавшемуся инвеституры для епископов, без
обращения к собору, которым святейший отец нисколько не интересовался. Но
Наполеон не умел сделать этого, и никто не оказался достаточно умен, чтобы
перед ним на этом настоять. Зло сделалось непоправимо, потому что
полученное от папы одобрение декрета, которое должно было положить конец
этому сложному делу, ни к чему не привело; виной этому был необузданный
нрав Наполеона, который, приблизившись к разрешению вопроса попытался
снова все запутать, для чего он нашел более чем достаточно способов.
После нескольких весьма миролюбивых объяснений между депутацией,
отправленной в Савону, и папой, — объяснений, не касавшихся ни одной
действительной трудности, созданной им, — святейший отец охотно согласился
на пять статей декрета. Он дословно включил их в послание от 20 сентября
1811 года, в котором он обращался к епископам с выражениями отеческой
любви и без малейшего упоминания о своем образе действий. Он говорил в
предисловии с трогательным чувством благодарности о том, что бог допустил,
чтобы с соизволения его дорогого сына, Наполеона I, императора французов и
короля Италии (оба эти титула указаны в послании), четыре епископа
посетили его и просили его позаботиться о французской и итальянской
церквах. Он говорил о чувствах, с какими он принял их, и с искренней
радостью отзывался о том, как они изложили императору его виды и
намерения. Он объявил, что согласно новому разрешению его дорогого сына
Наполеона I... пять кардиналов и архиепископ, его духовник, опять явились
к нему и что восемь депутатов (потому что один скончался в дороге)
сообщили ему о состоявшемся в Париже 5 августа общем собрании духовенства;
они вручили ему письмо, уведомлявшее его о том, что происходило в этом
собрании, и подписанное многочисленными кардиналами, архиепископами и
епископами; наконец, он объявил, что его просили в надлежащих выражениях
снова одобрить пять статей, уже ранее одобренных им.
Выслушав пять кардиналов и своего камерария, эдесского архиепископа,
папа утвердил все, что ему было представлено. Он только добавил в своем
послании, что он желает, чтобы, приступая к инвеституре, архиепископ или
старейший епископ запрашивал обычные сведения, чтобы он требовал
исповедания веры, давал инвеституру от имени римского папы и пересылал ему
подлинные документы, подтверждающие точное соблюдение этих формальностей.
Это добавление было сделано в виде простой оговорки, вытекавшей из
принятия папой предложенных ему статей, и, кажется, сам император не
возражал против нее, когда читал ее.
Но дело приняло другой оборот, когда он ознакомился с поздравлениями и
похвалами, с которыми святейший отец обращался к епископам по поводу их
поведения и выраженных ими чувств. При чтении фразы, свидетельствовавшей,
что епископы, как им и подобало, проявили истинное послушание в отношении
папы и римской церкви, которая является матерью и владычицей всех других
церквей, “aliarum omnium matri et magistro veram obedientiam”(11),
Наполеон не выдержал. Слова “владычица” и “послушание” вызвали у него
смех, сменившийся яростью, и он с пренебрежением отправил папское послание
обратно, требуя другой его редакции. В Париже ходили разные слухи об его
изменчивом и с каждым днем все более враждебном отношении к святейшему
отцу. Наконец, через некоторое время, без всякого официального
постановления даже несмотря на то, что в “Мониторе” (насколько я помню) на
этот счет ничего не было опубликовано, распространился слух о том, что
переговоры с папой прерваны. Епископов, членов собора, не собрали, чтобы
сообщить им об этом, но велели им отправиться в свои епархии, уведомив их
лишь о том, что по вине папы переговоры с ним прекращены.
Между тем папское послание было возвращено; не приученный к языку
римского двора, Наполеон мог порицать в нем некоторые выражения и даже
требовать их изменения; но вопреки ему, несмотря на примененное им насилие
и его ярость, уступки, потребованные у папы и считавшиеся в течение трех
лет столь желанными, были папой сделаны. В Савоне начали даже проводить в
жизнь это послание, и папа беспрепятственно дал инвеституру четырем
епископам, назначенным императором; имя императора упоминалось в буллах,
как и прежде, что означало несомненную отмену буллы об отлучении. Наконец,
папа соглашался на дополнительное условие к конкордату, на что никто не
осмеливался надеяться; его послание сводилось именно, к этому, и таким
образом впредь император мог бы, когда ему угодно, применять это условие
на основании декрета или сенатского решения, не нуждаясь в обращении к
папе. Почему же он предпочел вернуть послание и отказаться от всего, что в
нем было с его точки зрения полезного? С какой целью он придрался к
нескольким выражениям, не составлявшим существа послания и в отношении
которых он мог, приняв его, сделать все те оговорки, какие бы он пожелал?
Мне это неизвестно: он был способен на любую непоследовательность.
Если бы нантский епископ был в Париже, он мог бы, я полагаю, заставить
его примириться со словами “мать” и “владычица” всех церквей, а также со
словом “послушание”, показав их императору в нескольких местах знаменитой
речи Боссюэ, произнесенной при открытии собрания духовенства 1682 года; он
мог бы присовокупить, что эти выражения согласны с правами галликанской
церкви, потому что они означают лишь право папы обращаться в качестве
главы ко всем католическим церквам, что признается французской церковью,
как и другими. Но нантский епископ был вместе с прочими депутатами в
Савоне, где они должны были ждать новых распоряжений.
Император возвратил послание; скорбя, папа взял его обратно и был
вынужден считать его недействительным. Однако, при своей кроткой
снисходительности, которая была хорошо известна, он был, конечно, готов в
любой момент возобновить его, потому что он дал его не условно и особенно
потому, что он ничего не требовал для самого себя.
Из чтения инструкций, врученных Наполеоном епископам-депутатам перед
их отправкой в Савону, становится ясно, что император отверг все послание
целиком не из-за нескольких встречающихся в его тексте выражений, которые
не составляли его сущности; он сделал это главным образом потому, что в
этом послании папа говорил от своего собственного имени. (Как будто он мог
поступить иначе!)
Инструкции эти были, впрочем, не таковы, чтобы подействовать
примиряюще: при их возмутительной суровости под каждым их словом
чувствовалось явное желание прервать переговоры. Так, епископы-депутаты
имели распоряжение сообщить папе, что император поручил им заявить о
потере конкордатами силы закона для империи и Итальянского королевства;
они должны были указать, что сам папа дал императору право на этот шаг
своими нарушениями в течение нескольких лет некоторых предписаний этих
договоров, вследствие чего Франция и Италия восстанавливают у себя общее
право. Помимо того епископам было поручено просить у него безусловного
утверждения декрета; они должны были потребовать его распространения не
только на Францию и Германию, но и на Голландию, Гамбург, Мюнстер, великое
герцогство Берг, Иллирию, наконец, на все страны, присоединенные или
которые будут в дальнейшем присоединены к Французской империи. Им
предписывалось отвергнуть это утверждение, если бы папа поставил его в
зависимость от внесения какого-либо изменения, ограничения или какой-либо
оговорки, к чему бы они ни относились, за исключением римского епископата.
В особенности же они должны были указать ему, что император не согласится
ни на какое постановление и ни на какую буллу, из коих вытекало бы
изменение папой от своего имени того, что было сделано собором. Словом,
они должны были обращаться к нему лишь с угрозами.
Возможно, что Наполеон возвратил депутатам папское послание, не найдя
в нем дословного выполнения своих инструкций, для того чтобы папа
сообразовался с ними; депутаты же вручили папе послание, конечно, без
угроз, а в почтительной и просительной форме, уведомив о том, как оно было
встречено Наполеоном; святейший отец, увидя, что нет никакой возможности
удовлетворить императора средствами, находившимися в его распоряжении, в
свою очередь отказал в том, что у него требовали в такой резкой и
произвольной форме.
Я забыл сказать, что Наполеон обратил внимание на то обстоятельство,
что в папском послании не упоминалось слово “собор”, а только “собрание
епископов”. Это должно было быть более чем безразлично для Наполеона, так
как оскорбиться этим могли одни епископы, которые были далеки от мысли
возражать против этого. Император, столь пренебрегавший собором с таким
презрением распустивший его, раскаивавшийся каждый раз, как ему о нем
говорили, в том, что он созвал его, не должен был бы проявлять особого
рвения к восстановлению его названия, тем более, что папа дал ему другое,
совершенно равноценное наименование. Между тем его стремление к конфликтам
заставило его почерпнуть в этом опущении слова “собор” новый повод для
нападок на святейшего отца, часто упоминавшийся им в беседах, хотя,
конечно, не в этом заключалась основная причина его отказа и его гнева.
Епископы, посланные в Савону, еще долго, вопреки своему желанию,
оставались там. Они вернулись в Париж лишь в начале весны 1812 года.
Император хотел, как он говорил, наказать их за проявленное ими неумение.
Членов собора даже не собрали в Париже, чтобы уведомить о том, что
произошло в Савоне; 2 октября 1812 года им приказали через министра
полиции вернуться в свои епархии, что они и сделали. Ничего не было
опубликовано ни по поводу переговоров или собора, ни по поводу папского
послания. Каждому было предоставлено сделать из этой путаницы те выводы,
какие он пожелает; а затем все стали интересоваться другим.
Обращение, которому подвергали в Савоне святейшего отца зимой
1811—1812 года и следующей весной, было по-прежнему сурово. В этот период
при появлении английской эскадры возникли, кажется, опасения, чтобы она не
увезла папу, и император отдал приказ перевести его в Фонтенебло.
Несчастный старец покинул Савону 10 июня; его заставляли день и ночь
совершать путь. В странноприимном доме на Мон-Сени он серьезно заболел, но
тем не менее его принудили продолжать путешествие. Его заставили надеть
одежды, которые помешали бы узнавать его. От публики тщательно скрыли
путь, которым он ехал, и в этом отношении была соблюдена такая полная
тайна, что по прибытии его 19 июня в Фонтенебло привратник, не
предупрежденный об этом и потому ничего не подготовивший, должен был
принять его в своей собственной квартире. Святейшему отцу понадобилось
довольно много времени, чтобы оправиться от утомления, вызванного этим
тягостным путешествием и по меньшей мере бесполезными жестокостями,
которым его подвергли.
Кардиналы, не впавшие у Наполеона в немилость и находившиеся в Париже,
а также турский, эвреский и трирский епископы получили приказание
отправиться к папе. Говорили, что он выразил пожелание, чтобы кардинал
Мори был несколько более умерен в своих посещениях. Распространился слух,
что папа будет доставлен в Париж, и даже были сделаны большие
приготовления к приему его в архиепископском дворце, куда он, однако, не
прибыл.
Русская кампания, отмеченная столькими бедствиями, приближалась к
концу. Император, вернувшийся 18 декабря 1812 года в Париж, все еще питал
несбыточные надежды и обдумывал, вероятно, грандиозные планы. Но прежде,
чем посвятить себя им, он хотел опять вернуться к церковным делам, потому
ли, что он раскаивался в том, что не закончил их в Савоне, потому ли, что
ему пришла фантазия доказать, что за двухчасовое свидание с папой он
достигнет большего, чем сделали собор, его комиссии и самые ловкие
делегаты. Между тем он заранее предпринял шаги, которые должны были
облегчить его личные переговоры с папой. В течение уже нескольких месяцев
святейший отец был окружен кардиналами и прелатами, которые по убеждению
или из покорности императору изображали церковь в таком состоянии анархии,
которое угрожало, по их словам, ее существованию. Они без конца твердили
папе, что, если он не сблизится с императором, чтобы найти поддержку в его
могуществе и пресечь зло, раскол станет неизбежен. Наконец, папу,
обремененного годами, немощью, тревогами и заботами, которыми старались
воздействовать на его дух, хорошо подготовили к сцене, которую Наполеон
задумал разыграть и которая должна была обеспечить то, что он считал
успехом.
19 января 1813 года император в сопровождении императрицы Марии-Луизы
неожиданно прибыл в покои святейшего отца, устремился к нему и порывисто
обнял его. Удивленный и тронутый Пий VII позволил после некоторых
объяснений увлечь себя и дал согласие на условия, скорее предписанные, чем
представленные ему. Они были облечены в форму одиннадцати статей, которые
еще не представляли собой конкордата, но должны были служить основой для
нового соглашения. Император и папа поставили 24 января свои подписи под
этим странным документом, лишенным общепринятой дипломатической формы,
потому что оба государя заключили соглашение непосредственно друг с
другом.
В этих статьях говорилось следующее: папа будет осуществлять
первосвященство во Франции и Италии; его послы и аккредитованные при нем
лица будут пользоваться всеми дипломатическими привилегиями; те его
поместья, которые не отчуждены, будут освобождены от налогов, а
отчужденные будут возмещены ему в пределах до двухмиллионного дохода; папа
будет производить назначения на епископские кафедры во Франции, как и в
Италии, с последующей рекомендацией назначенных лиц; пригородные
епископства будут восстановлены и назначения на них будут производиться
папой, а те имущества этих епископских кафедр, которые не проданы, будут
возвращены им; римским епископам, отсутствующим из своих епархий в силу
обстоятельств, папа сможет давать епископства in partibus(12);
им будет выдаваться содержание, равное их прежнему доходу, пока они не
получат назначения на свободные кафедры; если это потребуется, император и
папа в надлежащий момент условятся друг с другом о сокращении территории
тосканского и генуэзского епископств, как и об учреждении епископских
кафедр в Голландии и в ганзейских провинциях; дело пропаганды,
пенитенциарная часть и архивы будут сосредоточены в резиденции святейшего
отца; наконец, его императорское величество возвращал свою благосклонность
кардиналам, епископам, священникам, мирянам, навлекшим на себя его
недовольство в результате происходивших событий.
Главная статья, на которую святейший отец согласился в Савоне,
естественно, тоже была внесена, и она была изложена в следующих
выражениях: “В течение шести месяцев, следующих за обычным объявлением о
произведенном императором назначении на архиепископства и епископства
империи и Итальянского королевства, папа дает церковную инвеституру в
согласии с конкордатами и в силу настоящего своего разрешения.
Предварительное сообщение делается архиепископом. Если папа не даст
инвеституры до истечения шести месяцев, то архиепископ, а за отсутствием
его или когда дело идет о назначании архиепископа, — старейший епископ
округа совершит возведения в сан назначенного епископа так, чтобы кафедра
никогда не оставалась незанятой более года”. Таково было содержание
четвертой статьи.
В последней статье святейший отец заявлял, что его привели к
вышеуказанным решениям соображения, вытекающие из современного положения
церкви, и уверенность, внушенная ему его величеством, что он окажет свое
могущественное покровительство столь многочисленным в настоящее время
нуждам религии.
Известие о подписании этого договора вызвало у публики чувство
большого удовлетворения. Но радость папы была, кажется, непродолжительна.
Он едва успел принести жертвы, которые требовались от него, как уже
испытал чувство большой горечи; оно могло лишь усугубляться, по мере того
как изгнанные и заточенные кардиналы — Консальви, Пакка, Пьетро и другие —
получали свободу и право отправиться в Фонтенебло. Я не претендую на
знание того, что произошло тогда между святейшим отцом и этими
кардиналами, но Наполеон был, вероятно, предупрежден по некоторым
признакам о предстоящем; дело в том, что, несмотря на взятое им в
отношении папы обязательство считать подписанные одиннадцать статей лишь
предварительными, не подлежащими опубликованию, он тем не менее решил
сообщить о них в послании, которое великий канцлер должен был передать
сенату.
Эта преждевременная огласка акта, о подписании которого папа так
глубоко сожалел, ускорила его отказ от него, о чем он сообщил императору в
послании от 24 марта 1813 года. Не знаю, какими доводами святейший отец
обосновал этот отказ, но можно лишь сожалеть о слабости, руководившей его
поведением в данном вопросе и заставившей его по истечении столь короткого
срока согласиться на отказ от своих действий. Лучшее объяснение, которое
можно дать такому поведению, это то, что вследствие физического и
морального расслабления его дух покорился требованиям Наполеона и что силы
вернулись к нему, лишь когда он увидал себя окруженным своими верными
советниками. Можно сожалеть об этом, но кто сочтет себя вправе порицать
его?
Хотя и очень раздраженный отказом, император решил и на этот раз, что
в его интересах не дать делу огласки, и по внешнему виду он не придал ему
значения. Он издал два декрета, один от 13 февраля, а другой от 25 марта
1813 г. Первый объявлял новый конкордат, подписанный 25 января,
государственным законом; второй устанавливал его обязательность для
архиепископов, епископов и капитулов и как вывод из четвертой статьи этого
конкордата предписывал архиепископам дать назначенным епископам
инвеституру; в случае отказа им грозило привлечение к суду трибунала.
Свобода, на короткое время предоставленная святейшему отцу, была снова
ограничена, и кардинал Пьетро возвратился в изгнание. Вскоре затем
Наполеон отправился в Германию руководить кампанией 1813 года,
подготовившей войну, которая должна была привести позднее к его гибели.
Декреты, изданные ab irato, не выполнялись, и колебания успеха в
кампании 1813 года побудили императорское правительство к нескольким
попыткам завязать с папой переговоры, которые ни к чему не привели. Дело,
таким образом, затянулось, и не было видно никакого выхода, когда 23
января 1814 года вдруг распространился слух, что папа покинул в тот же
день Фонтенебло и возратился в Рим.
Наполеона сильно теснили тогда союзные войска, вступившие во Францию,
но так как он рассчитывал на победу, то мотивы такого неожиданного и
поспешного решения казались непонятны. Между тем оно вполне объяснимо.
Мюрат, покинувший императора и заключивший, как мы уже говорили,
соглашение с союзниками, занимал тогда Церковную область; понятно, что в
своем негодовании против Мюрата Наполеон предпочел возвращение папы в свое
государство его переходу в руки его шурина.
В то время как Пий VII находился в пути, а император воевал в Шампани,
декрет от 10 марта 1814 года объявил о возвращении папе той части его
владений, из которой были образованы Римский и Тразименский департаменты.
Лев, хотя и сраженный, не желал еще выпустить всей добычи, надеясь
удержать ее.
Путешествие святейшего отца не обходилось без превратностей и
затруднений; временное правительство, которое я имел честь возглавлять,
было вынуждено распорядиться 2 апреля 1814 года, чтобы всем этим помехам
был положен предел и чтобы римскому папе отдавали в пути принадлежащие ему
по праву почести.
Нужно сказать, что вице-король Италии Евгений принял папу почтительно
и что даже Мюрат не осмелился препятствовать возвращению ему его владений,
хотя он и занимал их своими войсками.
Папа прибыл 30 апреля в Чезену, 12 мая — в Анкону, а 24 мая 1814 года
он совершил торжественный въезд в Рим.
Излагая так пространно, как я это сделал, переговоры между императором
и папой, я преследовал двойную цель: я хотел показать, как далеко могла
страсть увлечь Наполеона, когда он встречал сопротивление, основанное даже
на добром праве, и доказать, что в изложенном здесь вопросе он был
одинаково не прав по существу и по форме; установить это, как я думаю,
нетрудно: я полагаю, что мне не нужно ничего добавлять, чтобы показать,
насколько недоброжелательно было все поведение, усвоенное им с 1806 года в
отношении папы; факты, описанные мною с беспристрастием и со всем тем
хладнокровием, какое возможно при изложении таких недостойных
преследований, говорят сами за себя; настаивая на этом, можно только
ослабить впечатление. Но я считаю еще более необходимым указать на
громадные ошибки, совершенные Наполеоном в его сношениях с римским двором
с точки зрения общей политики.
Когда в 1801 году Наполеон восстановил во Франции культ, он не только
совершил акт справедливости, но и проявил большое политическое искусство,
потому что этим он немедленно привлек к себе симпатии католиков во всем
мире, конкордатом же, заключенным с Пием VII, он укрепил на прочной основе
мощь католичества, потрясенную на короткое время французской революцией;
усилению его должно способствовать всякое разумное французское
правительство, хотя бы лишь для того, чтобы противопоставить его
распространению протестантизма и влиянию греческой церкви. А в чем же
главная сила католицизма, как и всякой власти, если не в единстве и
независимости? Между тем оба эти источника силы Наполеон пожелал подорвать
и уничтожить в тот день, когда, влекомый самым безрассудным честолюбием,
он вступил в борьбу с римским двором. Он подрывал единство католической
церкви, стремясь лишить папу права давать инвеституру епископам, и
ослаблял ее независимость, вырывая у папского престола его светскую
власть.
Выдача папой инвеституры епископам — единственная действительная
связь, соединяющая католические церкви всего мира с Римом. Это она
поддерживает единообразие церковных доктрин и уставов, допуская к
епископату только тех, кого римский папа признает способными охранять их и
защищать. Представим себе на мгновение эту связь порванной, и раскол
окажется неизбежным. Наполеон был в этом отношении тем более повинен, что
он имел перед собой опыт Учредительного собрания. Каково бы ни было мое
участие в этом деле, я не боюсь признать, что гражданское устройство
духовенства, декретированное Учредительным собранием, представляло собой,
может быть, самую большую политическую ошибку этого собрания: об ужасных
преступлениях, бывших его следствием, я не буду напоминать здесь. Имея
перед собой такой пример, было непозволительно впасть в ту же самую ошибку
и возобновить против Пия VII преследования, которыми Конвент и Директория
действовали против Пия VI и которые сам Наполеон так сурово и справедливо
осудил. Поэтому не может быть никакого извинения для его образа действий в
этом вопросе. Напрасно стали бы мне возражать, что существовали
беспокойные папы, злоупотреблявшие правом выдачи епископам инвеституры и
превратившие его в орудие борьбы с правительствами, даже с католическими.
На это я могу ответить, что это верно, но что правительства выпутались из
этого затруднения, что если бы им снова пришлось испытать его, они
действовали бы так же; между тем создание реальной опасности для
предупреждения возможного злоупотребления — плохая политика. Добавим, что
Наполеону было менее простительно, чем кому бы то ни было, действовать
так, как поступал он; в Пие VII он встретил самую неожиданную уступчивость
при разрешении церковных вопросов, а также снисходительность и кротость,
которым папа ни разу не изменил, несмотря на столь враждебный образ
действий в отношении него: булла об отлучении — лишь инцидент, лишенный
всякого значения. Какова же была вина Наполеона в этом случае, если,
несмотря на его похвальбу, что он всюду создает Англии врагов, как некогда
Митридат создавал их римлянам, он сделал из папы союзника англичан? Каковы
были ошибки императора, если ему пришлось хотя бы в течение одного момента
опасаться, что англичане увезут из Савоны его жертву?
Уничтожение светской власти папы путем поглощения Церковной области
великой империей было в политическом отношении не меньшей ошибкой.
Совершенно очевидно, что глава религии, столь широко распространенной во
всем мире, как католическая, нуждается в совершенной независимости, чтобы
беспристрастно пользоваться своей властью и влиянием. В современных
условиях, при территориальных разделах, возникших в ходе истории, и
политических осложнениях, порожденных цивилизацией, эта независимость
может существовать только, если она обеспечена светской властью пап.
Попытка вернуться к первоначальным временам церкви, когда папа был просто
римским епископом, потому что христианство ограничивалось Римской
империей, была бы столь же бессмысленна, как и стремление Наполеона
превратить святейшего отца во французского епископа. Что сталось бы тогда
с католицизмом во всех тех странах, которые не входят во Французскую
империю? Если бы папа очутился во власти Австрии или какой-либо другой
католической державы, как бы отнеслась к этому Франция? Могла бы она
верить в его полное беспристрастие и независимость? Какие бы иллюзии ни
строил себе Наполеон о силе и прочности своей власти, сосредоточенной в
его собственных руках или в руках его преемников, ему не следовало
создавать столь опасного прецедента, который мог в известный момент стать
роковым для Франции. 1814 год доказал, что тут не было ничего
невозможного.
Я останавливаюсь: мною сказано достаточно, чтобы показать все то зло,
какое ненасытное тщеславие императора готовило Франции в будущем.
Но—спросят, может быть, революционеры из тех, какие существовали в 1800
году, — зачем было в таком случае восстанавливать религию и папство?
Наполеон сам заранее ответил им заключением конкордата 1801 года; но это
был Наполеон поистине великий, просвещенный, руководимый своим прекрасным
гением, а не яростными страстями, позднее погубившими его
Примечания:
(1) Здесь имеется в виду казнь королевы Марии-Антуанетты в 1793 г., в
эпоху революции. Она приходилась родною теткою предполагаемой невесте
Наполеона — Марии-Луизе.
(2) Маршал Ланн был убит при Эсслинге, а не при Ваграме.
(3) Филипп V был посажен на испанский престол дедом своим, французским
королем Людовиком XIV, после долгой войны “за испанское наследство”
(1701—1713) (см. примечание 19 к главе I).
(4) Он вернулся в Неаполь еще в начале 1813 г., против воли Наполеона,
бросив командование остатками “великой армии”, отступавшей из России и уже
находившейся в Германии.
(5) Наполеон предоставил в 1806 г. голландский престол своему брату
Людовику для того, чтобы обеспечить соблюдение Голландией континентальной
блокады. Однако Людовик Бонапарт, вынужденный считаться с интересами
торгово-промышленных кругов Голландии, не стремился строго выдерживать
блокаду. Для оказания давления на Голландию Наполеон отнял у нее торговый
порт Флиссинген; так как положение оставалось прежним, Наполеон
присоединил к Франции Зеландию и Брабант и по договору 16 марта 1810 г.
установил, что охрана голландского побережья будет производиться Францией,
для чего она введет туда корпус своих войск. Людовик, подписав договор,
хотел сопротивляться его проведению в жизнь, но вынужден был уступить и
отрекся, а Голландия была 1 июля 1810 г. присоединена к империи.
(6) Принц Вюртембергский, поссорившись с королем Фридрихом, своим
отцом, жил в это время при кассельском дворе, у Жерома Бонапарта, женатого
на принцессе Катерине Вюртембергской.
(7) Речь идет о Вильгельме IX, великом герцоге Гессен-Кассельском,
низложенном в 1803 г. После падения Наполеона он был восстановлен в своих
владениях.
(8) Епископы, отказавшиеся от отставки, собрались не в 1803 г., а в
1801 г. в Лондоне и послали папе протест против конкордата, подписанный
четырнадцатью епископами. В апреле 1804 г. Диллон, архиепископ нарбонский,
снова послал папе протест против конкордата, причем его письмо
сопровождалось “декларацией о правах короля”, подписанной теми же лицами,
что и протест 1801 г. Подписавшиеся заявляли, что Людовик XVIII сохраняет
все права на французскую корону, предоставленные ему богом, и что ничто не
может освободить его подданных от верности своему государю, предписываемой
божественным законом.
(9) Архиепископ реймский, о котором здесь говорится, —
Талейран-Перигор, дядя автора (см. указатель).
(10) Собрание духовенства было созвано не в 1682 г., а в 1681 г.
(11) “Истинное послушание матери и владычице всех других церквей”.
(12) Епископами in partibus называются те, которые носят это звание
как почетный титул, не дающий права ни на какую юрисдикцию.
Оглавление
www.pseudology.org
|