| Charles-Maurice, Duc de Talleyrand-Perigord - Талейран | |
| Мемуары Глава 8. Часть 2 | |
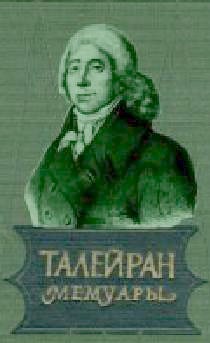 В задачу моего повествования входит ознакомление с этими людьми, так как
во что превратилась бы история, если бы она изображала одни
поверхностные явления, не проникая во внутреннюю сущность людей,
игравших некогда роль, и не вскрывая силы, которые приводили их в
движение.
В задачу моего повествования входит ознакомление с этими людьми, так как
во что превратилась бы история, если бы она изображала одни
поверхностные явления, не проникая во внутреннюю сущность людей,
игравших некогда роль, и не вскрывая силы, которые приводили их в
движение. Я уже познакомил с канцлером Дюкре, которому принадлежало первое место в доме герцога Орлеанского. Лимон управлял при нем финансами, занимая должность интенданта. Это был деловой и чрезмерно ловкий человек. Его привлекли к ведению дел Monsieur(10). В то время открылось наследство последнего герцога Орлеанского; оно было колоссально, запутано и осложнено трудно разрешимыми вопросами о сонаследовании. Лимону удалось рассеять хаос и оставить брата и сестру довольными друг другом и им(11). Этой услугой он обеспечил себе доверие герцога Орлеанского, но он не принадлежал к тем, кто не умеет извлечь пользы из подобного положения. Ведя тяжебные дела по наследству, он познакомился с главнейшими членами парижского парламента. Интересуясь тогда высокой политикой, они любезно встретили интенданта такого принца, имя которого могло придать вес их мнениям. Лимон, со своей стороны, почувствовал возможность стать полезным и усиленно поддерживал эти новые знакомства, чтобы никто не мог оспаривать у него роли посредника между принцем и парламентом. Лимону оказывал энергичную поддержку аббат Сабатье де Кабр, один из самых беспокойных членов тогдашних парламентов. Так как аббат был связан с госпожой Силлери, то ему было легко проникнуть к герцогу Орлеанскому; он выделялся редким бесстыдством, пленительным воображением и особо богатым красноречием и был причудлив и щедр в брани. Он понравился герцогу Орлеанскому и сумел его увлечь. Хотя аббат не пользовался уважением парламента, но он не лишен был в нем влияния. Его обвиняли там в том, что он действовал в качестве шпиона последнего министерства; для своего оправдания он неотвязно придирался к новым министрам. Именно он требовал в собрании парламента 16 июля 1787 года созыва Генеральных штатов; это дерзновенное новшество сильно привлекло к нему внимание. Для человека с подобным характером было бы большим преимуществом привлечь герцога Орлеанского к таким делам, которые, при его неспособности, каждый день увеличивали бы его зависимость! Он понял, что прежде всего следует устранить трудности, что нельзя надеяться преодолеть легкомыслие герцога, но необходимо ограничить свои требования к нему, чтобы воспользоваться его слабостями. Для выступления на государственной арене принцу следовало лишь затвердить роль, подготовленную для него аббатом Сабатье. Случай представился в виде займа в 400 миллионов, о котором я уже говорил. К этому моменту надо отнести начало участия герцога Орлеанского в общественных делах. Для правильного понимания этого эпизода необходимо познакомиться с некоторыми формами, соблюдавшимися во Франции, когда правительство нуждалось в займе. Указы, объявлявшие о займах и определявшие их условия, носили характер законов и, подобно всем законам, должны были быть записаны в регистрах парламентов королевства. Эта формальность, утверждавшая обязательство, взятое на себя государством, представляла обеспечение для заимодавцев. Но достаточно ли было для достижения такого значительного результата выполнения простой формальности? Мог ли один акт записи создать государственное обязательство и наложить ипотеку на доходы государства? Не означала ли парламентская регистрация акта одобрения мероприятий, заключавшихся в указе? А разве право одобрения не предполагает права неодобрения? Не свидетельствовала ли регистрация о национальном согласии, и могло ли это согласие выражаться в действии чисто механическом, слепом и совершенно пассивном? Все эти вопросы постоянно возобновлялись, и так как их всегда обходили и никогда не разъясняли, то они представляли постоянный источник споров и интриг. При каждом новом займе приходилось бороться с сопротивлением судебных сановников, к которому они имели естественную склонность, так как их власть была чисто отрицательной и они могли выражать ее лишь в отказах. Кроме того, они не обладали и не могли обладать никаким знанием государственных потребностей и средств. Поэтому их можно было убедить только общими соображениями, а чтобы отстоять эти общие соображения, надо было найти доводы для убеждения каждого судебного сановника в отдельности. Это дело было поручено первому президенту, но, когда он встречал слишком большие трудности, королю сообщали, что он должен применить свою власть. Тогда он созывал парламент на специальное королевское судебное заседание. Этот род собраний, о котором нельзя составить никакого здравого представления, если исходить из его названия, сводился в сущности к уничтожению той небольшой свободы и справедливости, которую парламенты охраняли своим сопротивлением. Поэтому Фонтенель правильно говорил, что lit de justice c'etait un lit, ou la justice dormait (* Игра слов, которая не может быть передана на русском языке вследствие двойного значения слова “lit”.—Р е д.). Независимо от того, присутствовал ли король лично в заседании парламента или призывал его с регистрами во дворец, весь обряд сводился к порицательной речи государя, которую канцлер комментировал. Затем поднимался генерал-прокурор королевства и излагал, часто с осуждением, причины указа, но в итоге, однако, требовал, чтобы он был превращен в закон. Надо заметить, что присутствие короля не лишало генерал-прокурора права свободно высказывать свое мнение, но в своих заключениях он был связан волей монарха. По окончании этих речей король приказывал записать указ в регистрах законов. После такого выражения королевской воли, которой судебные сановники не имели средств сопротивляться, им оставалось лишь прибегнуть к предостережениям, то есть запоздалым предупреждениям, которые оказывали влияние на общественное мнение и потому часто затрудняли действия правительства. Необходимо также отметить, что эти королевские судебные заседания парламентов представляли собой искажение древнего французского обычая, по которому короли некогда лично осуществляли суд в парламенте, среди принцев своей крови и пэров королевства. В этих королевских заседаниях все судьи высказывали свое мнение, король имел лишь один голос и выносил решение по мнению большинства. Но его присутствие на судебных заседаниях по частным делам придавало высказываемому им мнению значение королевской милости, и в этом заключался самый большой недостаток такого осуществления королевских функций, в остальном весьма внушительного. Позже поняли, что правосудие составляет обязанность королей, но эта обязанность выполняется лучше, когда она осуществляется не лично ими. Поэтому король перестал присутствовать при судебном разборе дел, но он сохранил право заседания среди судей. Обычно он пользовался им для того, чтобы заставить их зарегистрировать какие-нибудь законы и подавить их сопротивление; это называлось королевским судебным заседанием, и оно создавало такое положение, что даже по вопросам обложения и займов король был единственным и абсолютным законодателем; участие парламентов могло всегда быть ограничено совершенно пассивным актом, и действительно, они не участвовали в издании законов, которые они не имели права предложить и которым не могли воспрепятствовать. Единственный противовес королевской власти заключался в народных обычаях и в общественном мнении, которое в хорошо организованных государствах придает силу законам, а в совершенно деспотических заступает место безмолвствующих учреждений. Эта неуловимая власть имела особенное значение в вопросах о займах, так как правительство может сколько угодно призывать к себе капиталы, но их привлекает одно лишь доверие, притом доверие обоснованное. Когда архиепископ тулузский сделался министром финансов(12), он понял эту истину; с каждым днем ему становилась все очевиднее потребность в сумме, превышающей четыреста миллионов, разверстанных на последующие пять лет. В то же время он понимал, что если его заем зарегистрируют под принуждением, то это будет для него весьма неблагоприятным предзнаменованием и он никогда не будет выполнен. Королевские судебные заседания стали уже ненавистны. На добровольное согласие он не мог рассчитывать и опасался последствий слишком очевидного принуждения к регистрации. Он чувствовал необходимость привести в действие власть и в то же время замаскировать свое поведение. Поэтому он выдумал такую меру, как королевское заседание парижского парламента, которое должно было представлять собой сочетание королевского судебного заседания парламента со старинными “королевскими заседаниями”. У последних оно заимствовало название, в то время еще не очерненное, и право подачи голоса, что позволяло каждому члену парламента высказывать свое мнение и развивать свои доводы. От королевских судебных заседаний оно удержало самое основное — право требовать регистрации, невзирая на большинство голосов и на желание большей части членов. 19 ноября 1787 года король отправился в девять часов утра в парламент. Там находился герцог Орлеанский, как и другие принцы крови, кроме принца Конде, который присутствовал тогда на собрании штатов Бургундии. Король привез с собой два указа. Один из них объявлял о займе в четыреста миллионов и составлял главный предмет заседания, в то время как другой относился к гражданскому состоянию не католиков и был выдуман только для того, чтобы оттенить налоговый указ какой-нибудь королевской милостью. Король открыл заседание речью, состоявшей из двух частей. В первой он заявлял, что прибыл для совета с парижским парламентом о двух важных актах управления и законодательства. Он привел очень мало доводов, возлагая по обычаю на своего хранителя печати заботу о подробностях и объяснениях. Во второй части он воспользовался случаем, чтобы ответить на предостережения, обращенные к нему парижским парламентом в интересах парламента в Бордо, который был переведен в Либурн в наказание за его возражения против регистрации одного закона о провинциальных собраниях. Этой части своей речи король попытался придать оттенок властности, но так как она была ему несвойственна и не была выдержана даже в течение того недолгого времени, пока он говорил, то он лишь обнаружил неровностью голоса нерешительность своего характера. Затем говорил хранитель печати(13); его речь была построена по широкому замыслу. Он прежде всего приступил непосредственно к заявленной парламентом просьбе о немедленном созыве Генеральных штатов. Не отвечая безусловным отказом, он противопоставил этой просьбе принцип абсолютной королевской власти, который отвергал подобные обращения и ставил созыв в полную зависимость от воли короля. Его конституционная система основывалась на самых крайних доктринах абсолютизма когда-либо в нашей истории исповедовавшихся французскими министрами. От этих принципов, которые хранитель печати привел в качестве безапелляционного ответа на просьбы и постановления парламентов, он перешел к рассмотрению предложенных законов. Он подчеркнул значение улучшений, которые король уже приказал произвести, а также мероприятий по экономии и сокращению личных расходов короля, которые Людовик XVI предпочитал урезке затрат на защиту и величие государства. Он изображал как нечто гениальное простую мысль о займе четырехсот миллионов, которого должно хватить сразу на погашение других более тягостных долгов, на полезные улучшения, на восполнение недостаточных поступлений, На оплату всех предвиденных и непредвиденных расходов в течение пяти лет и даже затрат на войну. Вся подготовка к ней была, как он говорил, совершенно закончена на случай, если это бедствие произойдет, несмотря на обоснованные надежды короля, что оно надолго устранено благодаря мудрости и твердости тех переговоров, которые он вел. (Так министр дерзнул охарактеризовать поведение французского двора в отношении Голландии в течение 1787 года(14)). Эта картина благодеяний правительства завершалась новым указом о не католиках(15). Хранитель печати отметил большие преимущества, которые дает промышленности прирост населения, коснулся достижений общества, возможных благодаря новым гражданам, указал на достигнутое, наконец, согласование закона с природой и с обычаями. Но его слова явно обнаруживали цель всей этой приуроченной к случаю филантропии, и никто не верил, что министр рассердится, если благодеяния его веротерпимого закона будут отсрочены, лишь бы каждый высказался без оттяжки за утверждение займа, который должен был дать государственной казне четыреста миллионов. После того как хранитель печати закончил изложение сущности обсуждаемого вопроса, заседание приняло обычные для парламента течение и форму. Прежде всего выслушали докладчика парламента. Так называлось должностное лицо, на которое возлагалась обязанность рассматривать все законы, направляемые правительством в парламент для регистрации. Это лицо всегда выбиралось министерством среди самых старых судей, которые образовывали привилегированную секцию, называвшуюся большой палатой. В нее попадали, согласно принятому порядку, исключительно за продолжительную службу. Звание докладчика парламента было присвоено не должности, а лицу, выполнявшему поручение, связанное с особым доверием; оно открывало путь к удовлетворению честолюбия и к богатству; почти всегда им наделяли духовных лиц, так как из всех способов вознаграждения и обогащения кого-либо самым простым и дешевым было наделение аббатством. На этом посту аббат Террай положил начало своей известности и богатству; после него изменили обычаю и дали это звание Аммекуру, которому покровительствовал Орлеанский дом. Калонн лишил его этого положения, так как он заподозрил, что Аммекур вредит ему, стремясь сам проникнуть в министерство. Место Аммекура заступил аббат Тандо, не обладавший изумительной обходительностью своего предшественника, его большим знанием государственных дел и благоприятной внешностью; но основная его задача заключалась в точной передаче указаний королевского совета, в ответе на задаваемые вопросы посредством объяснений, слишком поверхностных для действительного освещения вопросов, но достаточных для удовлетворения притязаний большинства более жадного к почтению, чем к познанию. Таков именно был в данном случае доклад аббата Тандо, представлявший собой длинное и скучное пояснение к указу. Он закончил заявлением, что чрезвычайно важное значение подобного займа побудило бы его просить об образовании комиссии для рассмотрения указав и для доклада, если бы присутствие его величества не свидетельствовало, что государь прибыл в свой парламент для получения окончательного решения. После речи докладчика началось обсуждение; первый президент приглашал по очереди каждого члена высказать свое мнение. Герцог Орлеанский в нескольких словах высказался за отклонение указа. Это было его первое открытое выступление против двора. Те ораторы, которых вследствие их таланта и особых свойств слушали обычно с наибольшим вниманием, удвоили в этот день свои усилия, чтобы быть замеченными королем и произвести на него впечатление. Присутствие монарха не вносило ничего, что могло бы навеять робость и заставить отклониться от правды; предполагалось, что он прибыл в среду пэров королевства, чтобы заглянуть в сердца своих естественных советников. Как почетен мог быть успех судебных сановников, если бы им удалось силой своего слова отвлечь короля от обольщения посредственности, подействовать на его рассудок светом разума, тронуть его сердце картиной бедствий, от которых страдала Франция, не возлагая на него вины. Об этом успехе мечтал в особенности д'Эпремениль. Пользуясь славой первого оратора среди оппозиционных двору членов парламента, он не обманул ожиданий своей партии. В этом чрезвычайном случае его речь была призывом к личным чувствам короля. Он умолял его отложить в сторону мнение своего министерства и заранее готовые взгляды своего совета, взвесить без предубеждения те истины, которые он услышит, и дать себя влечь тому убеждению, которое у него сложится. Он заклинал его вообразить себя как бы в недрах своей семьи, окруженным собственными детьми, и не подавлять те движения, которые могут быть вызваны в его отцовском сердце этим радостным состоянием. Каждый из ораторов подходил к вопросу с той точки зрения, которая была свойственна его обычным взглядам и вытекала из особенностей его таланта. Сопоставляя все, что было сказано хранителем печати и докладчиком парламента об общей сумме государственных обязательств и недостаточности доходов, о возможных улучшениях и установленном дефиците, об экономии в будущем и скудости в настоящем, суровый Роберт Сен-Венсен находил, что для обеспечения займа нет ничего, кроме огромного дефицита, что нельзя, не допуская недобросовестного умолчания, предназначать на покрытие нового долга прежние налоги, уже служившие обеспечением старых займов, и что парламент явится соучастником в преступлении, если он предложит заимодавцам оказать доверие государству, покрывая своей регистрацией ту бездонную пропасть, в которую кредиторы низвергнут свои капиталы. Фрето, поверхностное красноречие которого объяснялось недостатками его эрудиции, поразил короля и все собрание сопоставлениями, заимствованными им из собственной памяти. Он прямо возражал против неправильного и двойственного положения хранителя печати, который, продолжая занимать должность первого президента парижского парламента, явился на заседание для выполнения функции министра, намечая проекты законов в совете, претендовал на их обсуждение в парламенте и сосредоточивал таким образом в одном лице законодательную инициативу и утверждение законов, пристрастие составителя проектов и непредвзятость судебного сановника. Он пришел не более не менее как к выводу о необходимости исключить Ламуаньона из собрания в момент подсчета голосов. Аббат Лекуанье приводил такие же основания в пользу исключения генерального контролера Ламбера, участвовавшего в заседании в качестве почетного советника. Аббат Сабатье, с которым я уже познакомил, как с одним из советников герцога Орлеанского, льстил королю похвалами, что придавало еще больше пикантности его горькой сатире на министров. Он настаивал, на своем излюбленном проекте созыва Генеральных штатов и указывал, что впредь парламент не сможет привлекать общественное доверие. Поэтому он приветствовал периодические созывы представителей народа и призывал их снова взять на себя ведение дел и положить предел тем хищениям, от которых они одни обладали целебным средством. Несколько членов говорило в пользу указа. В этом обширном собрании были также сторонники двора. Среди них выделялся герцог Ниверне, известный с 1771 года своим противодействием планам канцлера Мопу. Люди редко сохраняют энергию до конца своей деятельности. Царедворцы рано стареют, и почти все люди, старея, легко становятся царедворцами. Обсуждению указа было посвящено полных семь часов, и король слушал все время с неослабевающим вниманием, а нередко даже со знаками интереса. Казалось, что ему приходится больше всего бороться с впечатлением, произведенным на него речами д'Эпремениля, Сабатье и Фрето. Но в этом отношении его хорошо подготовили. Когда были выслушаны все говорившие и надо было собрать и подсчитать голоса, хранитель печати поднялся, приблизился к королю, выслушал его распоряжения и возвратился на свое место. После этого король произнес слова: “Я приказываю, чтобы указ, гласящий ...... был записан в регистрах моего парламента для его выполнения согласно форме и содержанию”. Теперь наступил момент для выступления на сцену герцога Орлеанского. Но, чтобы хорошо понять подготовленную ему роль, необходимо обратить внимание на употребленные королем выражения. Произнесенная им формула была бы совершенно правильна, если бы дело происходило действительно в “королевском заседании”, то есть если бы после обсуждения были собраны голоса и король приказал бы только то, что вытекало из установленного мнения большинства. Но именно этого-то основного вывода из всякого обсуждения в собрании на этот раз недоставало. Обсуждение происходило свободно, но голоса не были собраны. Можно, по правде говоря, предполагать, что если бы министр был более мужествен и ловок и решился допустить подсчет голосов, то результат был бы благоприятен для указа. Во всяком случае несомненно, что были приняты все меры для получения большинства. Заседание было назначено в такое время, когда вакации парламента должны были формально закончиться, но по известному обычаю затянулись далеко сверх законного срока. Не хватало многих членов, и из шести президентов на заседании присутствовали только четыре. Но в то же время архиепископ тулузский не упустил предупредить всех тех, на кого он рассчитывал. Кроме того, в собрание было привлечено чрезмерное количество штатных советников, почти никогда не пользовавшихся своим правом присутствия, и чинов судебной канцелярии прошений, зависимых уже по самому своему положению, причем из последних были привлечены наиболее зависимые в силу своего характера или честолюбия. Несмотря на столько мер предосторожности, правительство не дерзало рассчитывать на большинство, хотя оно было бы счастливо им располагать, и собрание превратилось в итоге в настоящее королевское судебное заседание, что, бесспорно, должно было отпугнуть привлекаемые капиталы. Нельзя слишком подчеркнуть всю неосторожность и в то же время робость подобного поведения. Министры думали помочь беде, исключив из приказа о регистрации следующие слова, характерные для королевского судебного заседания: “согласно моему точному приказу”. Вычеркивая эти слова, они льстили себя надеждой, что этим они заставят публику замолчать, и думали доказать, что происходило заседание в присутствии короля, но не формальное королевское судебное заседание. Разоблачение этой увертки было для них смертельным поражением. Советники герцога Орлеанского предоставили ему нанесение именно этого оглушительного удара. Король едва кончил говорить, как встал герцог Орлеанский и заявил: “Если король заседает в парламенте, то надо собрать и сосчитать голоса; если это королевское судебное заседание, то нам предписывается молчание”. Он остановился, но так как король ничего не ответил, то он продолжал: “Ваше величество, разрешите повергнуть к вашим стопам мой протест против незаконности ваших приказаний”. Надо вспомнить взгляды, существовавшие тогда во Франции, и действовавшие там принципы власти, чтобы понять впечатление, которое должен был произвести этот первый случай, когда принц крови заявлял протест в парламенте и в присутствии самого короля объявлял незаконным отданные им распоряжения. История монархии не знала ничего похожего. Были известны принцы крови, сопротивлявшиеся с оружием в руках королевской власти, но никогда еще не видали, чтобы они ставили ей конституционные пределы. Король, удивленный и приведенный в замешательство, поспешно заявил: “Это законно” и велел немедленно приступить к чтению второго указа. Как только оно было закончено, он встал и вышел вместе со своими двумя братьями, после восьми с половиной часов заседания, сильно его взволновавшего и давшего ему много оснований к беспокойству. Принцы и пэры, а с ними и герцог Орлеанский, по обычаю встали и проводили его, затем, вернувшись, снова приступили к обсуждению, возобновившемуся с большой горячностью. Сторонники двора хотели прервать заседание и отложить его на неделю, чтобы дать умам возможность успокоиться. Они указывали, что господа (таково было парламентское выражение) изнурены от усталости и нуждаются в отдыхе. Лепелетье де Сен-Фаржо, который, несмотря на свою молодость, был уже президентом парламента в “берете”, также предложил отсрочку, но только до следующего дня. Это решение соответствовало слабости его духа и робости его характера, которые побуждали его постоянно считаться со всеми партиями, пока республиканский образ мыслей не получил преобладания и не разрешил всех его колебаний. Тогда он еще не предполагал, что когда-нибудь он заслужит в качестве республиканца славу мученика и почетный венок. В этот день на него энергично нападал аббат Сабатье; он объединил обе точки зрения, требовавшие отсрочки заседания, чтобы сразу подорвать их, и заявил, что “господа не должны алкать и жаждать ничего, кроме справедливости, и должны посвятить ей остаток сегодняшнего дня, так как у них не может быть уверенности, что им будет предоставлен следующий день”. Произнося эти слова, он пытался придать своему тону нечто пророческое. Аббат Сабатье предложил затем герцогу Орлеанскому представить письменный протест, и, опасаясь, что память принца ему изменит, он подсказал ему выражения, почерпнутые в собственной памяти, которые, как ему казалось, он слышал из уст герцога. С этой помощью герцог Орлеанский выполнил то, что от него требовалось, и заставил записать в регистрах парламента, что тотчас же после приказания короля о регистрации указов он встал и заявил следующий протест: “Ваше величество, я умоляю разрешить повергнуть в парламенте к вашим стопам заявление, что я считаю эту регистрацию незаконной и что необходимо для оправдания лиц, которые призваны в ней участвовать, добавить, что она производится согласно точному приказу короля”. После некоторых прений было принято следующее постановление, предложенное аббатом Сабатье: “Парламент, считая незаконным то, что произошло в королевском заседании, когда не было произведено подсчета голосов, как это предписывается правилами, так что обсуждение не может считаться завершенным, заявляет, что он не намерен участвовать в предписанном ему внесении в регистры указа о займах, выпускаемых постепенно и последовательно в 1788, 1789, 1790, 1791 и 1792 годах, и что он в этот первый день продолжает обсуждение”. В восемь часов вечера заседание было закрыто. Герцог Орлеанский одержал в этот день победу, и надо признать, что все было подготовлено и проведено им и его друзьями с большой ловкостью. Замысел министерства, которое сумело прибегнуть к одним только мелким средствам для поддержки уже так сильно расшатанной королевской власти, был расстроен протестом герцога Орлеанского и постановлением, вскрывшим хитрость, к которой правительство думало прибегнуть и которое обнаружило его слабость. В то время как во дворце парламента осуществлялись все планы герцога Орлеанского, разосланные им агенты сообщали о происшедшем и провозглашали имя принца крови, оказавшегося столь добрым гражданином. Народ толпами осаждал аллеи, которые вели ко дворцу, и повсюду только и слышались толки о мужестве герцога Орлеанского и его успехах. Когда он появился, чтобы сесть в карету, его подхватили волны легкомысленного народа, встречавшего его самыми лестными приветствиями. Более пышный триумф не мог бы выпасть на долю даже освободителя отечества. Человека, несколько дней тому назад покрытого насмешками, сопровождали теперь благословения. Таково суждение толпы, которую удостаивают названием народа. К несчастью, герцог Орлеанский не нуждался в более чистом фимиаме, потому что только этот был ему доступен; он так же мало был способен принести истинные жертвы общественному мнению, как не умел понять настоящей цены такого мнения, когда его облагораживает личность тех, кто его высказывает. Радостные крики невежественной черни угождали его страстной вражде ко двору и укрепляли его в презрении к общественному мнению, показывая, как легко его можно завоевать. Архиепископ тулузский и хранитель печати, негодуя, что их уловки оказались ловушкой для них самих, применили все усилия, чтобы возбудить гнев короля, и доказывали ему, что не осуществление предложенных ими мер составит общественное бедствие. “Принц крови,—говорили они,— который должен был бы быть поддержкой трона, дерзнул до такой степени подрывать его основы, что даже пытался поставить пределы королевской власти и осмелился заявить об этом в присутствии короля! Судьи стали столь отважны, что обвинили в преступлении по должности министров, то есть лиц, наделенных доверием владыки, исполнителей его воли! Такая крайняя дерзость заслуживает наказания. Ссылка первого и лишение свободы вторых послужили бы хорошим примером, чтобы прекратить подобные безобразия”. Такими речами слабое министерство побудило короля к мерам, отражавшим лишь чувство досады; они могли только вызвать у всех подобных честолюбцев стремление к славе, выпадающей на долю лиц, подвергшихся легкому преследованию. Министры Людовика XVI не знали, что неограниченная власть не имеет права применять умеренные наказания к тем, кто ей сопротивляется, и что по своей природе она осуждена терпеть или же уничтожать своих врагов. Первое решение больше соответствовало бы характеру короля, второе сильно соблазняло его министров, но они не чувствовали себя достаточно сильными ни перед королем, ни перед народом, чтобы остановиться на нем. Им казалось, что они сделали уже очень много, посоветовав сослать герцога Орлеанского и предложив арестовать советников Фрето и Сабатье. Фрето отправили в крепость Дуллан, а Сабатье — в замок на горе св. Михаила, представлявший род изолированной башни на скале, омываемой морскими волнами. Барон Бретейль, министр полиции, отправился 20 ноября, в шесть часов вечера, объявить герцогу Орлеанскому приказ об его ссылке. Этому министру была специально поручена передача королевских приказов об аресте, когда они относились к одному из его сотоварищей-министров или к принцу крови. Было в обычае, чтобы министр их лично об этом извещал, и эта обязанность подчас обрекала его на такой прием, который вполне отражал настроение лица, впавшего в немилость. В данном случае положение было тем более затруднительно, что богатство барона Бретейля было связано с покровительством его семье со стороны Орлеанского дома. Его дядя, аббат Бретейль, был канцлером последнего герцога Орлеанского, который осыпал его щедротами и проявлениями благосклонности и открыл его племяннику карьеру, связанную с милостями и высокими должностями. Королевское письмо, переданное Бретейлем герцогу Орлеанскому, предписывало ему переночевать в его замке в Ренси и отправиться на следующий день в его же замок в Виллер-Коттере, расположенный от первого на расстоянии примерно восемнадцати лье. Принц принял это приказание с досадой и доставил себе удовольствие излить ее на лицо, привезшее приказ. Спустя час, в течение которого он отдавал разные распоряжения, он потребовал лошадей и сел в карету. Барон, который, по полученным им инструкциям, должен был его сопровождать, приготовился сесть рядом с ним, но принц остановил его фразой: “Что вы делаете?” Тогда барон показал полученные им распоряжения. “Ну хорошо,— заявил принц,— становитесь сзади”, и он отбыл. Барон, не омрачившись от этого “легкого облака” (выражение, которое он применял, рассказывая об этом маленьком инциденте), сел в свою собственную карету и поехал вслед за принцем. Слух о ссылке герцога Орлеанского быстро распространился по Парижу. Сад Пале-Рояля, все примыкающие к нему улицы и площади были наводнены толпой и оглашались криками: “Да здравствует герцог Орлеанский!” 21 ноября собрались отделения парламента и постановили отправить к королю первого председателя с просьбой приблизить к своей особе августейшего принца, которого он от себя отдалил, и вернуть парламенту двух членов, высказавших мнения, продиктованные только их рвением. В полдень парламент был призван в Версаль, и король приказал ему вычеркнуть из его регистров постановление, принятое 19 ноября. Речь, произнесенная им при этом случае, заслуживает быть сохраненной: “Я приказал вам,— сказал король, — доставить мне подлинник постановления, принятого вами в минувший понедельник, после моего отбытия из парламента. Я не могу оставить его в ваших регистрах, и я запрещаю восстанавливать его каким-нибудь другим способом. Как может заявлять мой парламент, что он не принял никакого участия в регистрации указов, когда они были мною объявлены лишь после того, как в течение семи часов я выслушивал подробные мнения и взгляды тех его членов, которые пожелали их высказать, и когда для всех, как и для меня, очевидно, что большинство голосов было за регистрацию моего указа, с присовокуплением просьбы об ускорении созыва Генеральных штатов моего королевства. Я уже заявил, что я созову их до 1792 года, то есть самое позднее перед концом 1791 года. Мое слово свято. Я отнесся к вам с доверием, прибегнув к той старинной форме общения, о которой мой парламент так часто просил своих королей, моих предшественников; и в ту минуту, когда я захотел держать с вами совет по одному из вопросов моего управления, вы пытаетесь превратиться в обычный трибунал и объявить незаконными результаты, к которым пришло это совещание, ссылаясь на постановления и правила, относящиеся лишь к трибуналам, выполняющим свои обычные функции. Просьбы моих парламентов должны поступать ко мне только в виде почтительных представлений или предостережений. Я никогда не одобрю постановлений, выражающих противодействие моей воле без объяснения оснований таких решений”. После речи короля, замечательной по высказанным им принципам и по данному им формальному обещанию созвать Генеральные штаты, первый президент получил позволение сообщить о постановлениях, принятых в это самое утро относительно ссылки герцога Орлеанского и лишения свободы двух советников. Король ответил несколькими словами: “Когда я удаляю от своей особы принца своей крови, то мой парламент должен верить, что у меня есть для этого глубокие основания. Я наказал двух сановников, которыми я должен был быть недоволен”. Парламент ожидал подобного сухого ответа, но это не помешало ему выполнять и в дальнейшем свое назначение. Его примеру последовали все, кто имел право поднимать голос и доводить свои представления до ступеней трона. Все парламенты наперерыв заявляли протесты, все требовали возвращения принца и обоих судебных сановников. Принцем и пэрам было запрещено присутствовать на заседаниях парламента, которые продолжались почти беспрерывно и привлекали внимание публики. Опыт показал, что при слабом правительстве настойчивость не остается безрезультатной. В заседании 22 ноября парламент постановил послать секретаря Изабо приветствовать герцогиню Орлеанскую и выразить ей сочувствие по поводу ссылки ее мужа. Принцесса уже уехала в Виллер-Коттере. Когда герцог Орлеанский прибыл в место ссылки, он поспешил обратиться к парижскому парламенту с просьбой впредь не интересоваться им. Он хорошо знал, что, подчеркивая свое намерение окружить себя молчанием, он еще больше привлечет к себе народную партию, и был уверен, что усердие к нему парламента не ослабеет. Но ему было нежелательно, чтобы действия парламента были приписаны подстрекательству с его стороны, так как в этом случае они могли бы раздражить короля, а не успокоить его. Не подвергая опасности свою власть, король не мог так быстро отменить наложенные им наказания. Пэры с трудом подчинялись запрещению посещать парламент. Они тайно собрались во дворце герцогов де Люйнь для выработки протеста в интересах сосланного принца. Подобные просьбы, как я уже сказал, поступали со всех сторон. И тем не менее герцог Орлеанский очень мало заслуживал вызванное им сочувствие. Блеск роли, выпавшей на его долю, мало его трогал, и он с горечью жаловался на те лишения, которых она требовала. Никто никогда не проявлял по поводу столь ничтожных лишений так мало терпения и такой недостаток мужества. Если бы парижане могли читать в глубине сердца своего нового божества, их поразило бы, что на столько оказанных ему знаков почитания он отвечал такой малой преданностью. По приказанию короля герцогу Орлеанскому было предписано принимать в ссылке только членов своей семьи и лиц, причисленных к его двору. Благодаря этому надеялись избежать большого притока посетителей, который, несомненно, создался бы вокруг ссыльного, чтобы почтить его по случаю его уединения и особенно чтобы показать пренебрежение тем недовольством, которое он вызвал. Однако в Виллер-Коттере он отнюдь не был в одиночестве. Все лица, близкие к принцу, среди которых не следует забыть великодушную госпожу Ламбаль, считали своим долгом отправиться туда; к нему присоединились и его дети. Лица его штата и штата герцогини Орлеанской образовали многочисленное общество. В этот период своей жизни он был тесно связан с госпожой Бюффон, молодой и красивой особой, которая заслужила своим бескорыстием и крайней преданностью снисходительность всех, кто ее знал. Раз в неделю она отправлялась в Нантейль, маленький городок, расположенный на одинаковом расстоянии как от Виллер-Коттере, так и от Парижа; туда ездил для встреч с нею герцог Орлеанский. При таких возможностях, обитая в великолепном жилище, среди развлечений, доставляемых огромным богатством, он мог бы, проявляя весьма обыденную умеренность, чувствовать себя счастливым, Но ему казалось, что его положение невыносимо, и действительно, нельзя отрицать, что с этого момента слепая мстительность стала господствующей страстью его сердца. В этом преимущественно заключается секрет второй половины его жизни. В голове герцога Орлеанского подготовлялись планы мести, но в то же время он всеми способами горячо добивался свободы. Парижане, стремившиеся найти оправдание своему восхищению перед ним, говорили, что он отклонил сближение и примирение, предложенные ему архиепископом тулузским. Согласно этим толкам, герцог Орлеанский отказывался воспользоваться расположением двора, пока не будут возвращены оба советника и пока им всем трем не сообщат причины проявленной к ним строгости. Эти слухи распространялись лицами, близкими к Пале-Роялю, где умалчивали о шагах, безуспешно сделанных в его интересах принцем Конде и герцогом Бурбонским. Король принял их благосклонно. Он не осуждал принцев за сочувствие к герцогу Орлеанскому, но в ответ на настойчивые просьбы указать срок ссылки он ограничился словами: “Поверьте, что я хороший родственник”. Эти же охотники до новостей, одинаково способные к выдумкам и к недомолвкам, умалчивали о письмах герцога Орлеанского, в которых он прямо испрашивал прощение. Он не ограничился в них просьбами и не постыдился прибегнуть к гораздо более постыдным средствам для достижения своей цели. Он не обосновывал своей просьбы законностью своего поведения, ни даже чистотой своих намерений, но приводил самые странные доводы для смягчения короля. Он указывал на необходимость возобновить работы, начатые в Пале-Рояле, и наблюдать за ними, так как их приостановка наносила большой ущерб его делам; он указывал также на запущение, в котором они находились вследствие болезни Лимона, управляющего его финансами. Чтобы испробовать все доводы, он говорил затем о своем здоровье и о здоровье герцогини Орлеанской и указывал, что им обоим необходимо вернуться в Париж. Наконец, он ссылался на отставку своего канцлера Дюкре, причем за эту искупительную жертву с его стороны он просил возвратить ему королевскую благосклонность или по крайней мере великодушно простить ему те заблуждения, в которые “его вовлек этот неосторожный фаворит”. Действительно, Дюкре покинул, свой пост, и в публике обращалось письмо, в котором он просил об отставке. Из этого письма следовало, что она была вполне добровольной; верный слуга заметил, что он вредит своему господину, и его привязанность к нему побудила его удалиться. На автора записок, переданных герцогом Орлеанским королю, обрушилось столько вражды, что у него не оставалось надежды принести какую-нибудь пользу. Он верил, что после такого удовлетворения мстительность его врагов не потребует новых жертв. Все это было пересыпано фразами об успехах, достигнутых во время его управления. Но ни отставка канцлера Дюкре, , ни его письмо, ни письмо герцога Орлеанского не тронули сердца короля, и его решения по-прежнему диктовались строгостью. Герцог Орлеанский не получил даже никакого письменного ответа; графу Монтморену, министру иностранных дел, было лишь поручено навестить его, призвать к терпению и сообщить, что король ему ничего не написал, чтобы избавить себя от огорчения, связанного для него с отказом. Парламент, в котором принцы и пэры получили, наконец, разрешение присутствовать, не прекращал своих настояний о возвращении обоих советников и ссыльного принца. Весь декабрь прошел в ожиданиях и в домогательствах ответа у правительства. Было отмечено усердное посещение принцем Конде и герцогом Бурбонским заседаний парламента; если иногда они и соглашались в чем-нибудь с министерством, то все же их нельзя было обвинить в том, что они упустили хоть один случай заступиться за трех изгнанных лиц. Спустя несколько недель строгие меры были отменены. Король захотел проявить мягкосердечие и разрешил герцогине Орлеанской то, в чем он отказывал парламенту. Архиепископ санский (Бриенн перешел из архиепископства тулузского в санское), считавший, что эта уступка обеспечит ему на некоторое время покой, подготовлял вместе с хранителем печати новую организацию суда, которая в случае ее декретирования приостановила бы функции всех существовавших в королевстве парламентов. Этот новый проект должен был быть утвержден на собрании, известном под названием суда в полном составе. В нем предстояло зарегистрировать указы, предложенные министром парламенту. Но Бриенн не обладал ни складом ума, ни характером, нужными для осуществления таких обширных проектов, притом в столь серьезных обстоятельствах. Меры, подготовляемые министерством и хранимые им в глубокой тайне, вызывали живейшее беспокойство всей магистратуры. Делались всевозможные попытки, чтобы узнать, какие проекты готовит правительство, и наконец это удалось. Д'Эпремениль и Гуалар получили копию указов и связанных с ними документов. Их напечатали и распространили, а министерство даже не знало о сделанном открытии. В созванном тотчас собрании парламента, на котором герцог Орлеанский не присутствовал, все пэры и члены парламента принесли присягу в том, что лишь данную палату они будут считать правомочной и что даже с опасностью для жизни они отвергнут все предложения, направленные на отсрочку созыва Генеральных штатов. Затем было объявлено, что если благодаря принятым насильственным мерам парламент будет не в состоянии следить за соблюдением основных начал французской монархии, то он поручит наблюдение за этим королю, принцам крови и Генеральным штатам. Министерство, уведомленное о происшедшем, решило арестовать тех членов парламента, которых оно подозревало в раскрытии тайны его проектов и в опубликовании их. Д'Эпремениль и Гуалар укрылись в парламенте. Находившийся в Париже военный отряд последовал за ними. Спустя несколько часов они сами отдали себя в руки д'Агу, командовавшего отрядом, который заявил, что возьмет их силой, если они добровольно не последуют за ним. Д'Эпремениль был отправлен на острова св. Маргариты. Я должен отметить здесь одну странную особенность человеческого рассудка, о которой надо всегда помнить: это был тот же самый д'Эпремениль, который вместе с епископом города Блуа — Темином; заседавшим в это же самое время в собрании духовенства, был вождем партии, оппозиционной двору, и решительным сторонником Генеральных штатов, а затем на протяжении всей истории Учредительного собрания выделялся вместе с Темином чувствами, мнениями и интригами, направленными против нового порядка, созданного при их участии. Архиепископ санский, испытавший в течение двадцати четырех часов нечто вроде банкротства и применявший в течение нескольких дней строгость в отношении парламентов, отказался затем от всех своих планов и, чтобы выиграть время, обещал созвать Генеральные штаты, но он ничего не достиг и должен был отстраниться, оставив после себя ослабленный двор и сознавшее свою силу общественное мнение, или, короче говоря, — начатки революции. Герцог Орлеанский не оказывал уже никакого влияния на парламент, и до созыва Генеральных штатов его имя едва ли вообще произносилось. Поэтому я не буду останавливаться на тех событиях, которыми отмечена эта интересная эпоха. Само правительство определило границы своей власти и в воззвании ко всем просвещенным людям оно предложило обществу заняться вопросом о наилучшем способе созыва Генеральных штатов. Не означало ли это неосторожного возбуждения страны всякого рода политическими спорами, не направляемыми с самого своего возникновения никакими твердыми принципами? Действительно, они послужили первой причиной тех беспорядков, которые были порождены созывом Генеральных штатов. Первые признаки этих смут проявились в предместье Сент-Антуан, и все свидетельствует о том, что герцог Орлеанский не был им чужд. Фабрикант по имени Ревельон, вполне порядочный человек, давал заработок большому числу рабочих. Среди них распространили какую-то клевету, которая настроила их против того, кто давал им средства к существованию. В то же время им роздали некоторую сумму денег, к ним присоединилась толпа, их число возросло, и бунт так разросся, что пришлось прибегнуть для его подавления к помощи французских и швейцарских гвардейцев. Уже то обстоятельство, что у всех убитых или арестованных мятежников была найдена одинаковая сумма денег в двенадцать франков, свидетельствует, что мятежом руководил кто-то сверху; признания, сделанные некоторыми из этих несчастных, не позволяют усомниться, что бунт был возбужден агентами герцога Орлеанского. Благодаря его распущенному характеру ему было приятно всякое волнение; он всегда был рад посуетиться, пошуметь и создать затруднения, но большего он не смел желать. Указанным бунтом руководил Лакло, причисленный с некоторого времени к герцогу Орлеанскому в качестве его секретаря по особым поручениям. Лакло был введен в Париже в некоторые дома виконтом Ноайлем, который знал его по службе в одном гарнизоне; исходя из его тщеславия, ума и дурной репутации, герцог Орлеанский решил, что это человек, годный на все, и что в бурных обстоятельствах полезно иметь его при себе. Его “Похвальное слово Вобану”, безнравственный роман “Опасные связи”, несколько работ по тактике и несколько газетных статей, доказывающих гибкость как его взглядов, так и таланта, побудили герцога Орлеанского поручить ему составление инструкций различным лицам, которые должны были представлять его в судебных округах, входивших в его удельные владения. По этому случаю Лакло составил своего рода кодекс, в статьях которого были высказаны все философские идеи того времени, но они показались герцогу Орлеанскому слишком мало прикрытыми. Он считал это неудобным и стал искать другого составителя. Ему указали на аббата Сиеса, как на человека, больше всех размышлявшего над теми вопросами, которыми, как предполагалось, займутся Генеральные штаты. При свидании с ним в Монруже у Бирона герцог Орлеанский показал ему проект Лакло и попросил Сиеса исправить его по собственному усмотрению. Аббат Сиес, который по складу своего ума бывал обычно недоволен чужими работами, не нашел в проекте ничего заслуживающего сохранения и составил новый проект, который герцог Орлеанский одобрил и напечатал(16). Я считаю, что с этого момента у герцога Орлеанского не было больше никаких сношений с аббатом Сиесом и что это был единственный случай их общения. Но так как эти инструкции сильно нашумели и имя их автора было известно, то считалось, что в разные периоды революции существовала тайная связь между аббатом Сиесом и герцогом Орлеанским. Вероятно, никогда не было на свете двух более несхожих людей, и ничто не доказывает этого лучше, чем изображение Сиеса таким, каков он есть. Я постараюсь сделать набросок его портрета. У Сиеса в высшей степени сильный рассудок, сердце его холодно и душа робка; непоколебима лишь его голова. Он может быть бесчеловечен, потому что самолюбие помешает ему отступить, а страх удержит в преступлении. Он проповедует равенство не из-за филантропии, а из-за жестокой ненависти к власти других. Однако нельзя сказать, чтобы он годился для осуществления власти, так как он не мог бы чувствовать себя хорошо во главе ни одного правительства, но он желал бы одухотворять его мысли и притом обязательно один. Нетерпимый и властный, он не может принудить себя к постоянному и регулярному труду; пренебрегая тем, что известно, он желает проникнуть дальше. Всякое препятствие его возмущает, и он презирает всякое соглашение. То, что он называет принципом, превращается в его руках в бронзовый скипетр, не приспособляющийся ни к несовершенствам природы, ни к слабостям человечества. Ему одинаково неизвестны как добродетели, внушаемые чувствительностью, так и заблуждения, вызываемые ею. Когда он принимает решение, то никакое чувство не может его остановить. В его глазах люди лишь пешки, которые надо переставлять; они занимают его ум, но ничего не говорят его сердцу. Когда он составляет конституцию, то он обращается со страной, для которой она предназначается, как с местом, население которого никогда ничего не чувствовало и ничего не видело. Страх — единственное чувство, оказывающее на Сиеса истинное влияние. В Конвенте он боялся смерти; с тех пор им владеет боязнь мести Бурбонов. Сиес ведет правильную жизнь, он методичен в своем поведении, но его образ действий мало понятен. В его частной жизни нет ничего интересного с философской точки зрения. Вкусы его до известной степени изысканны, он прихотлив в отношении обслуживания, помещения, меблировки. Он не алчен, но у него не настолько возвышенное сердце, чтобы презирать богатство; даже его самолюбие не настолько сильно, чтобы мешать корыстолюбию подрывать его политическое значение. Он не обладает ловкостью ума и не любит спорить, так как умеет лишь предписывать. Сиес плохой собеседник; у него нет желания убедить, он хочет поработить. Нрав у него желчный; возможно, что этому способствует его природный недостаток, мешающий ему общаться с женщинами. Тем не менее он удостаивает пошутить с ними; тогда он достигает известного изящества; он может улыбаться и лукаво высмеивать, но в меру, хотя и довольно колко, однако он никогда не опустится до того, чтобы быть любезным. Самолюбивый и малодушный, он должен быть вследствие этих свойств завистлив и недоверчив; поэтому у него нет друзей, но у него есть верная и покорная свита. Сиес может возглавлять мнения, но он не может быть главой партии. Его ум надменен, но не деятелен. Он очень цельный человек; если не все его желания выполняются, то он дуется в своем углу и утешается, полагая, что на него смотрят. Его лицо не кажется счастливым, но носит отпечаток грустного и созерцательного характера. Взгляд его имеет нечто надменное и высокомерное и оживляется лишь, когда он улыбается; его фигура, нечеткая по своим формам, медлительная и вялая походка, вообще вся его внешность кажутся заурядными, пока он не заговорит, а между тем говорит он нехорошо. Он произносит обыденные слова, но каждое слово выражает мысль и обнаруживает размышления. В серьезном разговоре он никогда не бывает увлекателен, но он импонирует. Свидетельствует ли все сказанное мною о том, что этот человек мог бы подчинить свой характер, свои настроения и взгляды какому-нибудь принцу и мог бы обладать услужливостью лица, согласного занять второстепенное положение? Никто этого не подумает. Исходя из сущности человеческих характеров, я уже опровергнул один раз широко распространенное мнение, что герцог Орлеанский имел секретные сношения с Сиесом. Так же бесспорно, что герцог Орлеанский не имел ни с кем из известных лиц того времени никаких других отношений, кроме естественно возникающих при частном общении и совершенно чуждых всяким личным комбинациям. После того как герцог Орлеанский дал инструкции своим округам, он перестал быть активным политическим лицом, слабость его характера и его двусмысленное положение, внушавшее другим беспокойство, помешали ему вернуться к этой роли. После совершенного им при подаче голоса преступления он превратился в ничто, ему нечего было делать, и он смешался с массой, но так как это было не его назначение, то он обратился в ничтожество, был принижен и затерт. Как же надо отнестись к тому мнению, которое считается достоверным, будто герцог Орлеанский был первым зачинщиком революции, что его имя стало лозунгом для многочисленного класса граждан, и то некоторые лица с беспокойным честолюбием побудили его довести свои взгляды до ступеней трона? Это мнение опровергается картиной его жизни, так как его безнравственность, крайнее легкомыслие, нерассудительность и слабость вполне достаточны для объяснения как его деятельности, так и бездействия. Кроме того, быстро развивавшееся после полученного толчка брожение умов не давало ни на один момент в течение всей революции места личным самолюбиям. Революционные идеи способствовали с самого начала установлению равенства и ослаблению власти, и потому все большие самолюбия, естественно, оказались разочарованными. Лишь гораздо позже, после страшных испытаний, начала ощущаться потребность в вожде для изменения установившегося порядка, и тогда появился Бонапарт. Конечно, герцог Орлеанский не последним заметил то расположение умов, о котором я говорил. Но истинные стремления своего честолюбия он всегда оставлял нераскрытыми. Как я сказал, он не олицетворял ни принципа, ни цели, ни причин революции. Его, как и других, захватил ее стремительный поток. Герцог Орлеанский сосредоточился в себе, на своих вкусах и потребностях. Отсюда проистекала та тайная мысль, которая заставила его согласиться после 6 октября 1789 года(17) на позорное для него путешествие в Англию, за которое его упрекали все партии. С этого момента начинает таять его огромное состояние, которое, став более подвижным, оставило в конце концов еще меньше следов, чем великолепная картинная галерея Пале-Рояля, сейчас уже сильно сократившаяся. Все свободные капиталы герцога Орлеанского были переведены окольными путями в Англию при помощи тайных агентов, которые, пользуясь своей неизвестностью, могли действовать бесчестно и воспользоваться плодами своих хищений. Так думают люди, стоявшие тогда во главе государственных дел. Если историки начнут изощряться в поисках людей, которым можно было бы поставить в заслугу или в вину возбуждение революции, руководство ею или изменение ее направления, то они возьмут на себя излишний труд. У нее не было зачинщиков, вождей или руководителей. Она была посеяна писателями просвещенного и предприимчивого века, которые, желая разрушить предрассудки, ниспровергли религиозные и социальные начала; затем она была взращена неумелыми министрами, вызвавшими разорение казны и недовольство народа. Для обнаружения действительного источника и причин революции следовало бы взвесить, исследовать и обсудить теоретические проблемы высокой политики и в особенности подвергнуть глубокому и искусному изучению вопрос о борьбе между философскими идеями и предрассудками, между притязаниями разума власти. Если же исходить только из результатов этой революции, то легко впадешь в ошибку и начнешь смешивать Малерба с Мирабо и ла Рошфуко с Робеспьером. ПРИМЕЧАНИЯ (1) Эта характеристика знаменитого Филиппа-Эгалите, герцога Орлеанского, близкого родственника короля Людовика XVI, имеет следующее происхождение. Осенью 1792 г. Талейран очутился в Лондоне на положении эмигранта и почти без всяких средств. Вместе с другим эмигрантом, Бомецом, он занялся для заработка литературною работою—именно, решил дать характеристику герцога Орлеанского. Ясно, что это было не в начале его пребывания в Англии, а в конце, т.е. в 1794г., когда герцог Орлеанский был уже казнен. Указанный очерк в печати не появился, так как Талейран нашел это по разным причинам неудобным. Очевидно, позже он внес в рукопись поправки, так как в ней упоминается Бонапарт. Она осталась в его бумагах, и герцогиня Дино, а может быть, последующие редакторы Бакур или герцог Брольи, вставили этот неоконченный, но интересный эскиз в мемуары, притом почему-то в ту часть, которая относится к 1791 году. Мы печатаем его в конце книги, так как он ни в какой прямой связи с линией изложения “Мемуаров” не находится. (2) Лигой, или точнее Священной лигой, называют объединения во Франции крайних папистов. Когда в 1576 г. король Генрих III сделал некоторые уступки протестантам, во главе Лиги стал Генрих Гиз (см. указатель), который в форме борьбы с гугенотами руководил движением за восстановление старого феодального порядка. Лига вызвала гражданскую войну, но после вступления на престол Генриха Наваррского, принявшего имя Генриха IV (см. указатель), притязания феодальной знати были отвергнуты, и Лига распалась. (3) См. примечание 21 к главе I. (4) Речь идет о Луи (Людовике)-Филиппе, впоследствии короле, и о его сестре Аделаиде, с которой Жанлис в 1792г. эмигрировала из Франции. (5) Пале-Рояль — парижский дворец, сооруженный в 1629—1636 гг. архитектором Лемерсье для кардинала Ришелье, который оставил его по завещанию Людовику XIII. Тогда он назывался Кардинальским дворцом. В эпоху малолетства Людовика XIV и регентства его матери Анны Австрийской в нем проживала королевская семья, и он получил название Пале-Рояля. Людовик XIV подарил его своему брату, герцогу Филиппу Орлеанскому. В царствование Людовика XV он сгорел и был перестроен архитектором Моро. Отец Филиппа-Эгалите, внук первого владельца дворца из семьи герцогов Орлеанских, прикупил вокруг него большой участок земли. Во время революции он вошел в состав национального имущества, был назван Национальным дворцом и в 1800 г. был занят Трибунатом. После реставрации Бурбонов он был отдан Орлеанскому дому. При второй империи, в нем жил двоюродный брат Наполеона III, принц Наполеон. После установления третьей республики он превратился в государственную собственность. (6) Monsieur — титул старшего из братьев короля; в данном случае речь идет о Филиппе Орлеанском, брате Людовике XIV, родоначальнике герцогов Орлеанских. (7) См. примечание 23 к главе I. (8) Парижский парламент был в августе 1787 г. изгнан из Парижа в Труа вследствие его возражений против регистрации нескольких финансовых указов. Через год он был возвращен в Париж. Бордоский парламент был изгнан в Либурн в наказание за его протест против учреждения провинциальных собраний (см. примечание 24 к главе I). (9) Речь идет о будущем австрийском императоре Иосифе II, посетившем, как брат Марии-Антуанетты, Париж в июне 1777 г. (10) Monsieur — в данном случае речь идет о графе Прованском, впоследствии Людовике XVIII. (11) Здесь говорится о разделе имущества отца Филиппа-Эгалите между ним и его сестрой Луизой Орлеанской, вышедшей замуж за принца Луи-Аври-Жозефа Конде, герцога Бурбонского. (12) Архиепископом тулузским и министром финансов (или точнее руководителем финансового совета), о котором здесь упоминается, был Бриенн (см. указатель). (13) Хранителем печати был Кретьен-Франсуа Ламуаньон (см. указатель). (14) О Голландии см. примечание 27 к главе I. (15) Указ 1787 г. о протестантах признал заключаемые ими браки законными; эта мера была вызвана тем, что с отменен Нантского эдикта Людовиком XIV браки протестантов не признавались и дети протестантов считались внебрачными. (16) Инструкции герцога Орлеанского были напечатаны отдельной книжкой в Париже в 1789 г. Они относятся к проведению выборов в Генеральные штаты во владениях герцога Орлеанского и указывают желательные основные пункты депутатских наказов, именно: политическая свобода, неприкосновенность собственности, ответственность министров, допущение развода и пр. Они высказываются в пользу соединения в Генеральных штатах всех трех сословий в одну палату и придают основное значение третьему сословию, как настоящему представителю нации. Задачей Генеральных штатов они считают уничтожение деспотизма аристократии и ограничение королевской власти. (17) 5—6 октября 1789 г. произошло второе, после 14 июля, открытое выступление народа; толпа пошла на Версаль, ворвалась во дворец и потребовала переезда короля в Париж. Король подчинился, а вслед за ним и Национальное собрание перебралось в столицу, где на него оказывали давление народная масса и политические клубы. Поводом к выступлению 5—6 октября послужил один офицерский банкет в Версале, на котором военные в присутствии короля и королевы срывали с себя и топтали ногами трехцветные революционные кокарды, а придворные дамы раздавали им белые королевские кокарды. Оглавление |
|